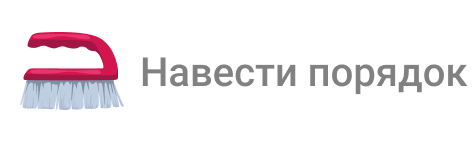ШУРА
Памяти Александра Тимофеевского
Я совсем не помню, как Шура появился в моей жизни.
Вот, обычно первая встреча запоминается, а тут — полное ощущение, что он был со мной всегда.
С нами.
Кажется, Юрка нас познакомил.
Павлов был персонаж довольно бесцеремонный, а Шура, наоборот, очень церемонный. Он со всеми — включая близких друзей — был «на вы». Но Павлов этого словно и не замечал, и, на правах чуть более старшего, преспокойно тютоировал Шурочку, и тому пришлось сломать себя и перейти с нами «на ты».
Так оно навсегда и осталось, и я подозреваю, что мы с Павловым были в числе тех — не более 10 человек на всём белом свете — кто был с ним «на ты», Шуру называл Шуркой, а он нас — Иркой и Юркой. Ну, или Шурочка — Ирочка — Юрочка.
Когда как.
Из-за этого, вероятно, и возникла в наших отношениях та простота, уютность и домашность, какой Шура обычно старался с людьми избегать.
Однажды мы сидели в ленфильмовском кафе и болтали — с Шурой всегда было интересно болтать, поскольку был он блестяще умен, и даже смолоду невероятно, нереально образован — так вот, болтали мы о том о сём, и я спросила его, что он заканчивал.
Шура сказал: «Ничего!».
В советское время представить себе человека нашего круга, который ничего не заканчивал, было невозможно. Все заканчивали хоть что-то, и по тому, что именно заканчивали, мы друг друга на первых порах знакомства и мерили.
Мы с Павловым — на тот момент оба уже с аспирантурой за плечами — вытаращили глаза.
И он нам рассказал, что начал было учиться в институте, но внезапно образовалось столько всего интересного в жизни, что он на это образование забил, и занялся интересными делами.
Такой вот абсолютной личной независимостью от общепринятого (при абсолютной же комильфотности) Шура всегда отличался от всех наших знакомых.
Потом, много лет спустя, когда я позвала его в жюри своего питерского фестиваля, и он согласился, директриса фестиваля, Людмила Томская, которая всегда крайне строго и ревниво следила за соблюдением дресс-кода и вообще «питерского стиля», даже не обратила внимания на то, что Шура, член жюри, выходит на сцену БКЗ в мятых штанах и зелёной вязаной кофте. Как будто так и надо, как будто он — в смокинге.
Она его полюбила буквально с первого взгляда — хотя он вовсе не был кинозвездой и она вообще толком не понимала, кто он такой — а вот сразу решила для себя, что Шура — очень важный и знаменитый, и если её спрашивали «а это кто?» — Люда вытаращивала на спрашивающего глаза и говорила: «Тимофеевский!», словно это должно было вопрошающему всё сразу объяснить. Переспрашивать Люду было опасно для жизни, никто и не переспрашивал. И после того фестиваля она приглашала его на каждый следующий — просто так, гостем: «Шурочка, я всегда вас рада видеть — ничего не делать, просто приезжайте и всё!».
А в другой раз мы снова сидели втроём в какой-то кофейне, и тут выяснили, что мы с Павловым любим и умеем играть в преферанс. Шура страшно загорелся: он тоже любил, но играть ему было не с кем.
Мы назначили рандевушечку у нас в пятницу, они с Павловым набрали винища, я чего-то наготовила (котлет, кажется; Шура поесть любил, был гурман, но и простую пищу уважал, и котлеты мои сильно нахваливал), и уселись мы на нашей кухне играть (родители с ребенком были на даче и нам никто не мешал).
Вдруг посреди пули они с Юркой решили посмотреть телевизор, включили — а там футбол, чемпионат мира. Они оба в футболе ни бельмеса не понимали тогда, но немедленно увлеклись, пулю отложили в сторону, и начали орать. Там играл Рууд Гуллит, как сейчас помню, а значит, шёл 1988 год.
Боже, как же они орали. Я говорила: «Шура, ну Павлов — босяк, ладно; но ты же — потомственный интеллигент с родословной, как ты себя ведешь?!». Шура и Юра смотрели на меня как на насекомое, и я стала орать вместе с ними. В результате мы втроём нажрались, мосты развели, Шурка остался ночевать у нас в детском кресле-кровати (не понимаю, как он там уместился — он всегда был огромный — но уместился).
Утром они опохмелились и преспокойно продолжили писать брошенную вчера пулю…
А в фоновом режиме мы разговаривали про живопись и про античную скульптуру, потом перешли на Микельанджело, потом сплетничали про Ленфильм, потом — про новые фильмы. Это и была у нас бытовая болтовня. А вовсе не мытьё костей, как сегодня.
Хотя, кстати, с Шурой и сплетничать тоже было интересно. Он про то, кто с кем развёлся и кто на ком женился, разговаривал с таким же упоением, как и про античность и про Микельанджело.
Ему просто было интересно всё — вообще всё.
Он бывал в своих оценках часто парадоксальным, всегда тонким, а подчас — во времена молодости больше, с годами меньше — и весьма жёстким и язвительным. Но, в отличие от большинства коллег, никогда целью его оценок не было желание оттоптаться. И уж тем паче — из-за несовпадения во взглядах. Только по существу предмета — и никак иначе.
В определенные моменты жизни Шура имел возможность добывать людям приличные места и должности с приличными окладами или гонорарами. Но вот ведь какая штука: ему обязаны были многие, а он сам мало кому. Он о своих благодеяниях никогда никому не напоминал — и люди о его благодеяниях нередко забывали. Он не роптал и не сердился. Царственное благородство было у него в крови.
К счастью или к несчастью, но мы с ним никогда не работали вместе, и потому наша дружба никогда не была зависима от внешних обстоятельств, от того, кто кому кем приходится, кто кому чего должен. В те времена, когда мы встречались часто, чуть не постоянно, отношения были достаточно легкомысленными (да мы и сами были молоды и легкомысленны), с годами стали встречаться редко — больше переписывались или перезванивались, а отношения почему-то становились всё более близкими и доверительными. Так тоже бывает.
Он был на удивление раним и беззащитен.
Внешне он выглядел вполне монументально: спокойным, уравновешенным, ироничным. Свою обиду и растерянность, свою уязвимость никому не показывал.
А на самом деле он, словно доброе дитя, вообще не понимал, как реагировать на хамство. На жлобство. На нетерпимость. Он говорил, что искренне завидует мне, которая умеет клацнуть зубами так, что охота хамить мигом отбивается. Да, я сейчас тоже ослабела, и, бывает, пасую перед хамами; но до конца о том, что были когда-то и мы рысаками, не забываю — и потому периодически от меня отскакивают те, кто по неосторожности слегка забылся.
А вот Шура так защищаться не умел, и страдал от этого безмерно. Он время от времени писал мне в личку: «Ирка, ну это уже просто пиздец какой-то, посмотри, я же написал совершенно вегетарианский пост! Почему эти люди так реагируют?!».
Я отвечала: «Шур, ну сколько раз тебе говорить — закрой комменты от праздношатающихся! А хамов — бань. Ну, пожалей же себя, наконец!».
Шурин ответ бы примечателен: «Конечно, ты права, надо банить. Просто наше поколение очень трепетно относится к свободе слова — слишком долго мы страдали от ее отсутствия. Поэтому я даю возможность высказаться всем и обо всем. Я не вижу беды в обсуждении любого вопроса, от некоторых тестов, правда, блевать тянет: я понимаю, гигиена необходима. Но поделать с собой ничего не могу».
Сейчас о нём многие пишут, как о некоем культурном феномене, а как по мне — вот эти его трепетность и нежность и были его сутью. Про культуру сегодня умеют неплохо поговорить и самые отчаянные, омерзительные социал-дарвинисты, а в нем его светлая душа была куда важнее всего остального.
Хотя, про культуру он понимал, как мало кто, и знал её, как мало кто.
Мы с Павловым и Алей Чинаровой собрались на 2013 НГ в Италию. Специально так, чтобы вне сезона: строго по музеям. Флоренция, Венеция, Рим.
Так-то мы в Италию наезжали время от времени, по разным причинам и в разные места. Но всякий раз останавливались в ступоре перед ордами туристов, и в очереди вставать не хотели.
И потому всяческой архитектуры мы в Италии насмотрелись всласть, а вот насчет художественных галерей такой же насмотренностью похвастать не могли.
Шура — который Италию превосходно знал и любил, а в Риме вообще чувствовал себя, как в собственной квартире, — составил мне по телефону и по почте подробную локацию, логистику, откуда куда и как переезжать, переходить, что за чем смотреть, где в Риме можно пойти на Рождественскую службу, а на следующий день мы договорились встретиться в ресторанчике (о, как мы гордились, когда он сказал, что не знал найденный нами чудесный ресторанчик Тритоне!).
И вот, мы уже обошли всё, что было возможно обойти за 4 дня во Флоренции, и за 4 дня в Венеции, и за 3 дня в Риме — Ватикан, вилла Боргезе и всё такое, — а в предпоследний римский день встретились с ним в Тритоне, пообедали и пошли гулять.
Он вёл нас теми маршрутами, которые мы уже прошли и считали обследованными. Но он заводил нас в церковь, в которую мы не заходили, включал свет (он знал, где расположены выключатели), и мы обнаруживали мини-выставку Караваджо, причем, картин, являющихся собственностью собора и никогда не покидавших его стен.
А в другом — микельанджеловского Христа, несущего крест. Или сворачивал в какой-то дворик, а там прямо на доме были потрясающие фрески, или поразительный фонтан с историей… И всё время рассказывал и рассказывал, и мы взахлеб могли спорить про то, какая Пьета Микельанджело лучше, и про то, какие есть смешные картины выдающихся мастеров в венецианском дворце Дожей… Могли перескочить на обсуждение новых фильмов, а потом опять вернуться к Тициану.
Культура была содержанием жизни Шуры.
Он был римский патриций, который с разной степенью капризности или властности выбирал себе сегодняшних любимцев, а завтра фавориты менялись (но прежние не были забыты и тоже оставались любимыми)…
Стало темно, но он нас всё вёл и вёл, и всюду знал где и какую кнопочку нажать, чтобы стал свет…
Я бесконечно могла бы о нем рассказывать, там граней было превеликое множество, как на тщательно ограненном алмазе…
Но вот это для меня на сегодня в моих воспоминаниях о нём главное: «он знал где и какую кнопочку нажать, чтобы стал свет».
А под катом еще одна история — я это написала давно. И это — тоже о Шуре.
19 июня 2016 г.
Я в канун Троицы думаю об одном своем друге.
Он и вообще-то человек необычный, и всегда таким был — необычным.
Но я не про то.
Он уже много лет помогает инвалиду, которого даже в лицо не видел — фактически, содержит человека, который в глаза не видел его, и даже не подозревает о его существовании.
Инвалид этот, возможно, думает, что это ему много лет — ежемесячно — помогает государство, которое его искалечило, и которому, на самом-то деле на него плевать.
Я, узнав про это, сидела несколько минут в ступоре и смотрела на этого своего друга, которого ни в чем похожем даже заподозрить не могла. Просто потому, что из его круга — вот так вот, тихо, без пиару, без навару, из собственного кармана, каждый месяц из года в год — никто не делает.
И я не делаю.
Он не рвет на себе тельняшку с криком, что, мол, это обязанность государства.
И деньги эти у него — не лишние, тяжелым трудом заработанные.
Просто ему стало больно за несчастного — он и счел себя, ни в чем неповинного, должным.
Я за друга этого своего всегда молюсь, и завтра в записочке напишу.
Потому что одним фактом своего существования этот тихий друг мой вселяет в меня веру в людей и в то, что все мы — дети Божьи.