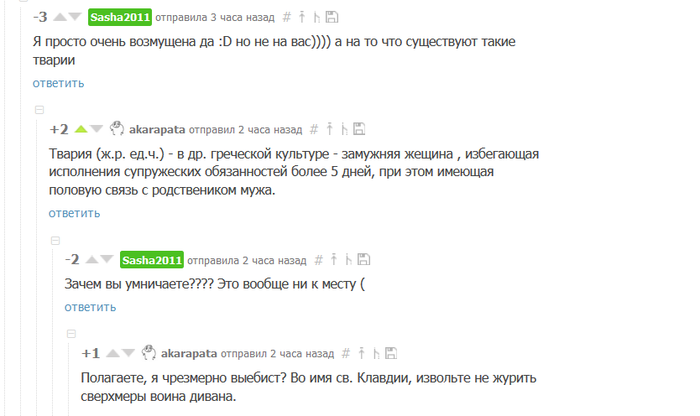Тридцатая глава "Колымской повести" Станислава Олефира. Предыдущие главы см. в профиле.
****************************************************************
Наше стадо подкочевало к сопке, название которой дословно переводится так: «Котел для приготовления чая с длинным дырявым хвостом». Обычно говорят более коротко – Тнуп чазю – сопка Чазю…
В минувшем веке у подножья этой сопки нашли большого мамонта. «Один рог на двух нартах везли – рассказывал дед Хэччо. – Толстый! Все равно, лиственница». Тогда здесь произошло немало памятных всем событий. Один из сопровождавших экспедицию казаков поднялся на вершину сопки, выложил из камней «еще одну маленькую сопку» и установил на ней флаг. Этот флаг несколько лет трепетал наверху, и все это время охотники боялись даже приблизиться к нему, считая, что он поставлен для какого-то шаманства. Кроме того, начальник экспедиции подарил оленеводам две винтовки и так много патронов, что на них можно было выменять большое стадо оленей. Да и сам мамонт – тоже немаловажное событие. Но, так или иначе, сопку назвали Чайник.
Все из-за какого-то рассеянного участника экспедиции, который присел у костра вскипятить чай, почаевничал, да так и ушел, оставив чайник на лиственничном суку.
Здесь никогда не присваивают оставленной или даже утерянной кем-то вещи, полагая, что хозяин рано или поздно обязательно вернется за нею. А вот просто попользоваться могут. Точно так любой человек может взять на время спрятанные в лабазе котел, топор или нарты. Попользоваться, сколько нужно, потом возвратить.
Пастухам чайник очень приглянулся. Они были уверены, что чай из него куда вкуснее сваренного в обычном котле. А может так было и на самого деле, потому что в этом же котле варили мясо, рыбу, да и все остальное, а перед тем, как поставить воду на чай, котел никогда не мыли.
При каждом удобном случае оленеводы заворачивали к сопке, угоститься чаем из «котла для приготовления чая с длинным дырявые хвостом» и, конечно, поговорить о событиях тех далеких дней: мамонте, щедром начальнике экспедиции, напугавшем всех флаге. Дед Хэччо говорил мне, что чайник несколько раз возили на ярмарку до самого Анадыря. Нет, не продавать или менять. Просто посидеть вокруг него, попить чая из диковинного котла, побеседовать и, конечно же, удивить приехавших из дальних кочевий оленеводов такой посудой.
Вполне возможно, чайник жил бы до сих пор, если бы не медведь. Чем ему не приглянулся прокопченный многими кострами чайник – не знает никто. Может, косолапому некуда было девать силу, а может, пастухи все же сварили в чайнике кусок оленины, и запах мяса разволновал зверя. Медведь сломал чайник и унес с собою, оставив возле кострища длинный изогнутый лебедем носик и помятую дужку.
Носик я забрал на память, а дужку мы с Кокой подправили и приладили к новому чайнику. Лишь только сообщили по рации, что собираются прислать вертолет за мясом, попросили купить в поселковом магазине самый большой чайник. Потом мы отцепили от этого чайника эмалированную дужку, а на ее место прикрепили сорванную медведем. Смотрится такая посудина, конечно, не очень, но завернувший к сопке Чазю дед Хэччо все хорошо понял, поднял крышку и положил в чайник коробок спичек и непочатую пачку чая…
Известная всем пословица «Живет в лесу, молится тележному колесу» – не такая уж и выдумка. Я сам от долгих скитаний по тайге и тундре стал настоящим язычником. После удачной рыбалки возвращаю последнего хариуса в воду, чтобы быть уверенным – после меня в реке еще плавает рыба. Когда ухожу домой, говорю этой реке «Спасибо!» Благодарю и костер, у которого прокоротал ночь, избушку, в которой довелось остановиться. К тому же при встрече со знакомыми избушками я здороваюсь с ними, и однажды у меня из-за этого было приключение. Подхожу к затаенному в глухой тайге зимовью и, как обычно, говорю: «Здравствуй, избушка!» А в ней как раз отдыхал охотник из Омсукчана. Он и ответил: «Привет!» Голос у него густой громкий, словно у лешего. От испуга я опустился на землю.
Самое удивительное, что многие мои обычаи оказались очень похожими на обычаи оленеводов, хотя раньше об этих людях я знал совсем немного. Покидая охотничий участок, с тем, чтобы возвратиться туда снова, я оставляю там какую-нибудь памятную вещь – лопатку, которой маскировал калканы, солнцезащитные очки или фонарик. Оленеводы, если стоянка была удачной, оставляют на месте стоянки «лобик» оленя, и откочевывают с полной уверенностью, что еще не один раз придут сюда всем стойбищем.
Если же случится неудачная охота, и я решил оставить эти места навсегда, тогда «запираю» свою лыжню тремя веточками и ухожу, не оглядываясь. Ровно тремя веточками «запирают» нартовый след коряки, когда уезжают от того места, где сожгли умершего. Кстати, оглядываться при этом тоже не полагается. В те места, где это случилось, они стараются не заглядывать.
Заметив медвежий след, я никогда не наступаю на него и, если случится этот след пересечь, делаю это только под прямым углом. Пусть медведь знает, что у него своя тропа, а у меня своя. Не наступают на отпечатки медвежьей лапы охотники, пастухи и рыбаки, которые издавна обитают в этих краях.
Если случится добыть на охоте зверя, несколько раз прикладываюсь щекой к его голове и прошу прощения у этого зверя за то, что поступил с ним так плохо. Похожий обычай есть и у аборигенов Севера.
И еще: как я, так и они, подняв у речного переката перышко оляпки, бросаем его на воду и загадываем при этом желание.
Когда в первый день жизни в корякском стойбище я принес сопкам свои подарки, то сделал это скорее для того, чтобы не обидеть бабушку Мэлгынковав и бабушку Хутык. Как баба Мамма наказала, так и поступил. Лично мне это было почти без интереса. Но после того, как подарил сопке Чазю новый чайник да побродил по ее склонам пару дней, она стала для меня такой же близкой, как таежная избушка, в которой зимовал, костер, у которого коротал ночь, река, у которой рыбачил. Поэтому сегодня, проходя мимо сопки Чазю, я вполне серьезно и искренне сказал ей: «Здравствуй, сопка!» и наверно это пришлось ей по душе, потому что она сразу же преподнесла мне подарок.
Кока рассказывал, что несколько раз видел на этой сопке очень большого медведя. Был это разыскиваемый мною великан, или совсем другой медведь – никто не знает. Но то, что медведь очень большой, у Коки нет никакого сомнения.
Однажды этот медведь украл у него целый рюкзак шишек кедрового стланика.
Бабушка Мэлгынковав во время зимних перекочевок подкармливает пастухов кашицей из оленьего жира, крови, ягод голубики и ядрышек кедрового стланика. Если съешь пару ложек этой кашицы, можешь спокойно кочевать на нартах при самом злом морозе, и ни за что не замерзнешь.
В том году шишки уродились неважно, лишь на сопке Чайник кусты буквально гнулись от них. Кока набил рюкзак под самую завязку и оставил у склона сопки, чтобы прихватить на обратном пути. Возвращается от оленей, а рюкзак пустой. Медведь вытряхнул все шишки и съел, рюкзак же аккуратненько повесил на ближний куст.
Пастуху – бы посмеяться над таким приключением – шишек на сопке сколько угодно, да жаль рюкзака. Дело в том, что любая вещь, которой медведь коснулся лапой, переходит во владение этого зверя и тронуть ее большой грех. К тому же, сам медведь никому не позволит нарушить этот обычай – подстережет ослушника и задаст хорошую трепку.
А рюкзак совсем новый, вместительный, с широкими лямками, которые Кока изготовил из строп-лент. Такой бы носить да носить…
В поисках медведя великана я взбирался чуть ли не на вершину сопки и, не найдя там даже следа, решил поискать медведя за Омолоном. Но Кока посоветовал не торопиться, а хорошенько обследовать северный склон Чазю. Там густые ольховники и, по его мнению, как раз там устроена берлога медведя-великана. Этот зверь всегда ложится на зимовку в затаенном от солнца месте, чтобы ранней весной случайная оттепель не подмочила его шубу…
У самого подножья сопки кусты ольховника и карликовой березки еще зеленые, чуть выше они уже тронуты первыми заморозками, а еще выше белеет оставшийся от минувшей зимы снежник. Нижняя его кромка понемногу подтаивает, обнажая новые и новые полоски земли. И тогда там наступает весна. Всходит трава, одеваются в листья кусты карликовой березки, расцветают золотистые рододендроны,
Комары и мошка боятся холода и облетают снежник стороной. Здесь любят пастись дикие олени, снежные бараны и даже лоси. Случается, в этом месте копает корешки и медведь. Поэтому к снежнику нужно подходить очень осторожно.
Я карабкался по одной из каменистых лощин, где кроме горной смородины и лишайников ничего не растет. Но зато меня не было видно ни снизу, ни сверху. Примерно на полпути к снежнику лощина закончилась, я высунулся из-за гребня и сразу же заметил двух снежных баранов. Они стояли у нижней кромки снежника и внимательно смотрели в мою сторону.
Я распластался на камнях и минут десять не казал из лощины носа. Когда решился выглянуть снова, оба барана стояли немного выше, но, главное, смотрели не в мою сторону, а на пасущихся в долине домашних оленей. То ли им хотелось побродить среди стада, то ли просто не могли понять, почему олени пасутся рядом с людьми, и никуда не убегают.
Недавно Николай Второй обещал бабушке Мэлгынковав добыть бараньи шкуры на новое одеяло. По ночам у нее мерзнут спина и ноги, а баранья шкура намного теплее оленьей. В пошитом из нее спальнике можно в самый лютый мороз провести ночь под открытым небом и никогда не замерзнешь.
Стараясь не громыхнуть камнями, спускаюсь в долину и, пригибаясь, бегу к пастухам. Какой-то час тому назад Николай Второе был возле стада. Он любит потолкаться среди оленей после смены. Может, не ушел и на этот раз. У него с собою новый карабин и не придется бегать в стойбище за оружием. Тот карабин, который у Коки, стреляет только после второго щелчка, а пули гуляют, где им вздумается.
Пастухи народ сообразительный. Увидев, как я изо всех сил несусь к стаду, Николай Второй быстро отвязал от лиственницы пряговых оленей, подхватил карабин и заторопился навстречу.
– Бараны! Там – возле снежника! – крикнул я издали, показывая на сопку. Пастух понимающе кивнул головой, спросил сколько их, не заметили ли меня, и направился в обход сопки. Мне показалось, что Николай Второй не понял, где я видел баранов. Ведь лощиной к ним подкрасться куда сподручной. Но он только раздраженно махнул рукой:
– Не видишь, что ли! Я с оленями буду подбираться. Разве олени в это время станут подниматься на сопку? Бараны им не поверят. Днем, когда комары – совсем другое дело. А сейчас они спускаются вниз. Я от распадка к ним поднимусь, а потом вроде мимо баранов спускаться буду. Ты снова отправляйся туда, где они тебя первый раз заметили, только не очень ворочайся, иначе напугаешь…
Я не мог видеть, как Николай Второй поднимался на сопку, как, прикрываясь пряговыми оленями, подкрадывался к баранам. Оставалось послушно сидеть у края лощины и смотреть на баранов, а те в свою очередь разглядывали меня. Наверное, через добрый час откуда-то из-за перевала донеслись выстрелы. Ближний ко мне баран, кувыркаясь, покатился по склону. Куда девался второй, я так и не понял. Только что стоял на выступе скалы и вдруг исчез.
Скоро из-за гребня показались олени, а затем выглянул Николай Второй. Какое-то время он стоял, глядя вниз, затем помахал мне рукой и показал, чтобы я поднимался к снежнику. Оказывается, второй круторог после выстрела прыгнул в лощину, пробежал шагов двадцать и уже мертвым скатился в стекающий от снежника ручеек.
Мы взвалили добычу на оленей и спустились вниз. Николай Второй все время молчал и был так невозмутимо спокоен, словно подобные охоты у него случаются каждый день и уже изрядно надоели. Шагает по камням, курит, изредка покрикивает на оленей и все. Я хорошо помню, что до поры до времени события охоты обсуждать не положено и благоразумно отстаю.
Самое неожиданное случилось в долине, когда Николай Второй вдруг заявил, что оба барана принадлежат мне. Я могу съесть их сам, не уступив никому и кусочка, могу просто выбросить росомахам, и никто за это меня не осудит. Добыча по давнему обычаю принадлежит тому, кто первый ее заметил, а не тому, кто убил. Николаю Второму я должен возвратить всего лишь два патрона, истраченных на этой охоте. Ровно по одному на каждого барана, если бы даже он истратил на них всю обойму.
Объяснял все это Николай Второй очень серьезно. Так же серьезно поддержали его Прокопий с Кокой. Но мне все время казалось, что это розыгрыш. Года три тому назад я охотился на Черном озере и чуть не подрался с одним мужиком из-за обыкновенной шилохвости. Когда налетели утки, мы выстрелили одновременно, и кто из нас попал – не понять. Пришлось поскандалить. Но там я с самой ночи киснул под дождем, подкрадывался, стрелял. А здесь – увидел, сообщил и… получай добычу!
Да не какую-нибудь, а пару снежных баранов!
Поэтому я решил, что с этими баранами у пастухов какая-то не совсем понятная мне игра, но все же принял ее правила и попросил помочь отвезти моих баранов бабушке Мэлгынковав. Пусть она разделит их между обитателями стойбища, как посчитает нужным. Она давно распределяет моих хариусов и ленков, которых приношу с рыбалки, почему не разделить и баранов?
…А через неделю к нам прилетел вертолет-магазин, я выбрал у продавцов две чашки с золотым ободком и, хотя мы кочевали уже довольно далеко от сопки Чазю, отнес и поставил их рядом с чайником. Там немного повалялся на хрустком мху, затем поднялся, погладил мох ладонью и, как можно доверительней сказал:
– Ну, извини, если что не так. Я пошел. До свидания, сопка!