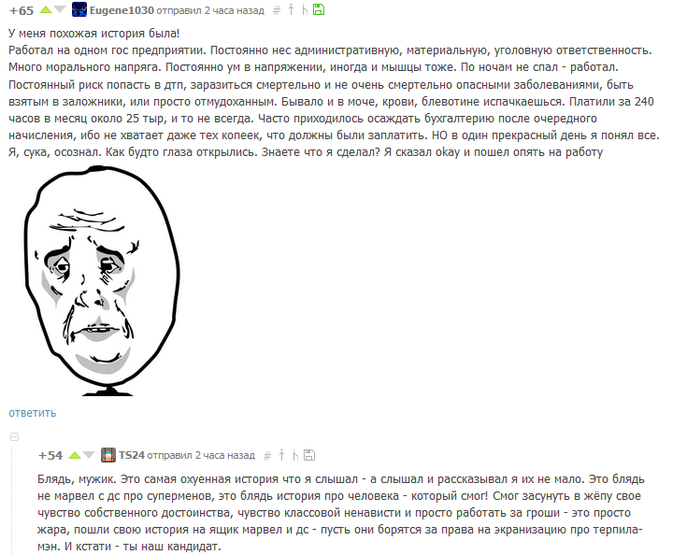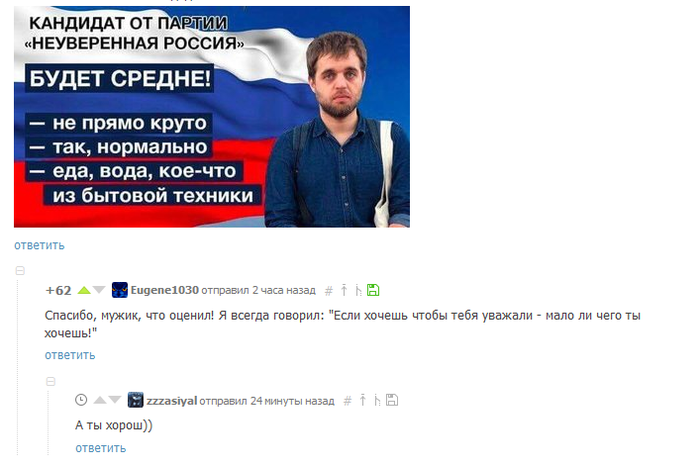Семнадцатая глава "Колымской повести" Станислава Олефира. Предыдущие в профиле.
******************************************************************
Когда-то Элит был хозяином стада. И баба Мамма, и Толик рассказывали, что у него паслось больше пяти тысяч оленей. Его раскулачили и приставили к собственным оленям в качестве совхозного пастуха. Элит никак не мог понять, что теперь он не хозяин стада, и колотил пастухов палкой, если они плохо следили за оленями. Его несколько раз переводили в другие бригады, но через неделю Элит начинал скучать по своим оленям и, не прихватив даже куска мяса, отправлялся за двести-триста километров в нашу бригаду. Донельзя отощавший, но все равно шустрый, как горностай, он появлялся возле своего стада, внимательно осматривал оленей и, не сказав дежурившим пастухам ни слова, отправлялся в ярангу. Там ел, отсыпался и, словно ничего не случилось, выходил на дежурство, предоставив все хлопоты по улаживанию его проблем бригадиру Коле.
На вид Элиту лет шестьдесят, может немногим меньше. Невысокий, поджарый, с редкими волосками вместо усов и бороды, он крепко держался за землю короткими, чуть кривоватыми ногами.
Элит может сутками пропадать возле оленей. Отдежурив смену, после которой падают с ног даже собаки-оленегонки, он не идет в стойбище, а устраивается отдыхать рядом с оленями. Разведет костер, заварит чай и, прихлебывая из потемневшей от частых заварок медной кружки, наблюдает за оленями. Случается, вздумавший попастись в одиночестве корб убежит из стада или что-то случится с олененком, Элит поднимается, берет палку, чтобы навести порядок, но тут же садится на кочку и принимается ругать пастухов. Те, понятно, обижаются и требуют от Коли, чтобы Элит не действовал им на нервы. Но Коля сам побаивается Элита и поэтому ничего сделать с ним не может.
Недавно директор совхоза предупредил Элита, если он будет вмешиваться не в свои дела, отправит его пастушить в Якутию. Оттуда пешком Элиту не добраться…
Баба Мамма рассказывала, что Элит никогда не женился и даже не нюхался ни с одной девушкой. Обнюхивание лица друг дружки издавна заменяет здесь поцелуи. Хотя, некоторые девушки эвенки и нюхаются и целуются с одинаковым успехом. К тому же, целоваться у молодых аборигенок получается даже лучше. Почему Элит остался без семьи, баба Мамма не объяснила, но и вправду, ни жены, ни, тем более, детей у него никогда не было. Ведь с его богатством он мог завести себе две, а то и три жены, и никто за это не осудил бы.
Мне немного жаль Элита, с другой стороны – любопытно поговорить с настоящим кулаком. Выбрав удобный момент, подсаживаюсь к его чайнику, какое-то время молча пью чай, затем, словно, между прочим, спрашиваю, хорошо ли быть кулаком?
– Чего хорошего? – сердито бросает Элит. – Разве я настоящий кулак был? Котел худой, кружки совсем не было. Из консервной банки чай пили. Они пришли меня раскулачивать, а в яранге, четыре облезлые шкуры и старый винчестер. Сейчас у меня бинокль, карабин совсем новый и три раза на курорт в Талую ездил. Сейчас я настоящий кулак, а тогда был ненастоящий.
– А олени? Говорят, у тебя их было больше пяти тысяч. Элит испытывающее смотрит на меня, щиплет волоски на бороде и спрашивает:
– Кто это считал, сколько тысяч? Никто не считал. Я же говорил, грех было считать. Много было и все. Пасли старательно, водки не пили, за оленями хорошо смотрели. У нас к оленям копытка никогда не привязывалась. Начальникам камусов не давали, оленьих языков тоже не давали – все сами ели. Оленей забивали, когда они жирные и шкура без дырок, а не когда директор совхоза по рации скажет. В прошлом году старатели возле Нявлинги золото мыли, двадцать шесть оленей в четвертой бригаде застрелили, языки отрезали, ноги отрубили, а остальное бросили росомахам. Как они потом эти языки кушать будут? Оленевод так никогда не сделает. А это настоящий кулак. Его сразу нужно убить, потому что он все равно, как вонючая росомаха…
В тундре самый большой позор для женщины – сварить мясо так, что оно будет отставать от костей. Для мужчины – упустить пряговых оленей. У Элита пряговые олени убегали дважды. Первый раз, когда Элит, победив всех на беговании оленьих упряжек, получил главный приз, на радостях напился и выпал из нарт. В другой раз все случилось на моих глазах:
В середине лета с моря наплыл до того густой туман, что даже собственные яранги мы находили лишь благодаря крикам собравшихся на озере гагар. Пастухи угадывали стадо по блеянию оленят да по взволнованному хорканью важенок, и, скорее, присутствовали при оленях, чем пасли их.
Оленям туман особого беспокойства не приносил. Прохладно. Ни комары, ни оводы не летают, а грибы олени находят по запаху. Задрал голову, втянул воздух и зашлепал широкими копытами по раскисшей тундре к выросшему в доброй сотне шагов подосиновику, словно по нитке. Аккуратно скусил, разжевал и отправился искать новый.
Ты же, как не приглядываешься, не только гриба, оленя разглядеть не получается. Появится на мгновенье рядом с тобою серая оленья спина с зависшими на шерсти капельками росы, проплывут похожие на ольховниковый куст рога, и снова вокруг один туман да чавкающая под ногами кочковатая тундра. Когда, наконец, туман рассеялся, и мы смогли собрать для пересчета оленей, оказалось, что потеряли больше трехсот голов. Перед этим мы дважды перекочевывали, и у какой из стоянок начинать поиски – никто не представляет.
А здесь, как на грех, пропали лопатки. Известно, сбежавших оленей лучше всего искать по лопатке. Берут обыкновенную оленью лопатку, накладывает на нее раскаленных углей, и по образовавшимся трещинам узнают, где искать пропажу. Можно, конечно, зарезать любого оленя и взять лопатку от него, но нужна лопатка животного, которого забили ДО ТОГО, как пропали олени. Свежая, по мнению деда Кямиевчи и Элита, для этого совсем не годится. У нас старых лопаток было две. Обе валялись на виду, и никто ими особо не интересовался, а стали нужны – исчезли.
Элит, как всегда в подобных случаях, ругается, обвиняя всех подряд в лени и нерасторопности. Дед Кямиевча пытается оправдаться и в который раз переворачивает нарты под лиственницами. Он прекрасно помнит, что вчера они были в этом месте и никуда деваться не могли. Толик подшучивал и над Элитом, и над дедом Кямиевчей, советуя не тянуть резину, а вызывать вертолет. С вертолета откол можно отыскать без всяких лопаток. Но за вертолет нужно дорого платить, кроме того, он может задержаться на целую неделю. За это время отколовшиеся олени разбредутся по всей тундре. Кто знает, сколько их потом отыщется, и сколько достанется волкам и росомахам. А здесь еще Кабяв разлегся посередине тропы и кидается на каждого, кто попытается мимо пройти. Он уже загнал в ярангу Мунрукана, оттрепал щенка Будыну и успел цапнуть увязавшегося за дедом Кямиевчей оленя Тотатке. Учик надеялся получить от хозяина щепотку соли, но вместо угощения пришлось удирать в кусты, оставив в зубах Кабява добрый клок шерсти. Уступал дорогу Кабяв лишь Остычану, да и то рычал так сердито, словно в животе у него кипел котел с мясом. Наконец пришла баба Мамма и быстро во всем разобралась. Она прогнала Кабява с тропы, покопалась в том месте и вытащила на белый свет обе лопатки. Немного, конечно, обгрызенные, но для задуманного дела вполне подходящие.
Элит долго вертел лопатку, пытаясь определить, на какую из них положить угли, наконец, выбрал ту, что побольше. Она от старого быка корба, а уж он-то знает об оленях больше, чем глупая важенка, которой принадлежала меньшая лопатка.
Я думал, лопатки будут жечь по какому-то особому ритуалу. У нас на Украине даже самая заурядная поездка на базар обставляется такими заморочками, – куда больше! И посидят на дорожку, и кружку воды выльют на землю, чтобы дорожка оказалась не слишком пыльной, и обязательно проследят, не покажется ли кто навстречу с пустыми ведрами? А до этого базара всего лишь какой-то час езды и никаких особых событий там не ожидается.
Или помню, как сестренки Инна и Лида гадали на женихов. Они и черевики через хату бросали, и обручальное колечко на ночь под подушку прятали, и собранную на трех перекрестках землю в узелок завязывали. А сколько при этом всяких приговорок наговаривали – всех и не упомнишь.
А здесь в эвенском стойбище выгребли из печки несколько раскаленных добела углей, высыпали на лопатку и, пока она растрескается, принялись советоваться, хватит ли макарон до базовой стоянки или заказывать их по рации, чтобы ближним вертолетом забросили еще ящик. Лопатка какое-то время дымилась, распространяя запах горелого мяса, и, наконец, покрылась сеткой мелких трещин. Все стойбище собралось вокруг и принялось рассматривать узоры на лопатке, словно, и вправду, это был какой-то план или карта.
Если широкий край лопатки принять за берег моря, к которому выходит наше пастбище, а разбросанные то там, то сям пятнышки, за недавние наши стоянки, можно запросто отыскать реку Хуромчу, озера Лебединое и Джоучан, проложенные вокруг них оленьи тропы. В одном месте эти тропы переплелись особенно густо, и я высказал предположение, что как раз там нужно искать откол. Элит согласно закивал головой и тут же посоветовал идти в ярангу спать. Мол, завтра с утра нужно отправляться на поиски, а у меня усталый вид.
Но назавтра Элит особо не торопился. Проснулись, как обычно, долго пили чай и даже подремали на дорожку. Наконец собрались. Но пришел бригадир Коля и сказал, что не имеет права отпускать нас без рации. Директор совхоза очень следит за этим, а Толик вместе с новым пастухом Сережкой вытащили из нее какую-то деталь и приладили к антенне телевизора. Пришлось возвращаться в ярангу и ожидать, пока они поставят все на прежнее место.
Солнце поднялось высоко над тундрой, когда мы, наконец, покинули стойбище. Воздух звенел от мошкары и оводов, а чайки, наклевавшись до одури снулой кеты, расселись вдоль Хуромчи на отдых. Две пары оленей тащили нагруженные палаткой и припасами нарты, мы шли пешком. Сверху тундра казалась сухой, но даже от малейшего усилия из-подо мха выступала вода. Отчего полозья нарт, копыта оленей и наши сапоги были все время мокрыми.
За нартами следовало десятка три пряговых оленей-ондатов, которых мы взяли для приманки. Отбившиеся от стада олени дичают удивительно быстро и, заметив пусть даже ходившего рядом с ними несколько лет человека, удирают, куда глаза глядят. Ондаты – вызывают у них доверие. Чем ондатов больше, тем покладистей ведут себя беглецы. Так что, в известном смысле, сбежавших оленей мы намерены ловить «на живца».
Я думал, в поисках оленей Элит ни на минуту не оторвет глаз от тундры, он же просто шагал впереди упряжки, курил и беспрестанно ругался:
– Там в конторе совсем скучно стало. Ничего не делать стало. Вот они и придумали таскать рацию. Где видели, чтобы пастух заблудился в тундре? Лучше бы, за молодежью хорошо смотрели. Интернаты их совсем испортили. Пасет оленей, и все время книжку читает. Словно у него четыре глаза: два в книжку смотреть, а два на оленей. Раньше так никогда не делали, и тундра была полна оленей. Книжек читать не умели, зато ворона читать умели – куда с добром! Ворон все знает, и целый день по тундре разносит. Если кто наблюдательный – все хорошо понять может. Заболеет человек в дальнем стойбище или наоборот – гости приехали – сразу по ворону понять можно.
Дед Пабат по ворону даже оленьи упряжки, которые по тайге кочуют, посчитать мог. Они от стойбища еще в двух перекочевках, а Пабат уже и оленей, и людей пересчитает. Правда, он шаман был, но все равно хорошо ворона понимал.
Ворон у нас в тундре всегда все равно, что Бог. Теперь люди совсем ничего понимать не желают. Перед туманом много гагар на озеро прилетать стало, грибы шуршали, как невыделанный пыжик, важенки все время волновались. Говорю Николаю, стадо в сопки гнать нужно. Он меня не слушает, а рацию слушает. Теперь откол искать будем. У меня, когда кулаком был, ни один олень не потерялся, и пастухи всегда слушались…
К тому, что когда-то был кулаком. Элит относится с гордостью. Он уверен, что ленивый и глупый человек никогда не станет кулаком, и считает себя чем-то вроде тундрового аристократа.
– Слушай, Элит, – обращаюсь к своему спутнику. – У тебя пастухов много было?
Он какое-то время молчит, словно производит в голове сложные подсчеты, затем произносит:
– Много. Очень много. Больше тридцати пастухов оленей пасли. Старики тоже хорошо помогали. Тогда стариков в каждом стойбище много было. И женщин сколько угодно, и детей.
– Представляю, как ты их палкой гонял!
– Никого я не гонял, – сердито и с какой-то обидой заявляет Элит. – Это дед Пабат меня палкой гонял, когда я пьяный прягового оленя зарезал. На беговании плохо бежал, от передовой упряжки совсем отстал, я его зарезал. Зачем мне ленивый олень? Ленивый пастух тоже никому не нужен. Сейчас в бригаде три тысячи оленей, а пастухов всего семь. Мне тоже столько хватило бы.
– Зачем же так много держал?
– А куда их денешь? Кушать хотят, а все их олени от копытки подохли. В тундре всегда помогать нужно. Даже плохого человека, которого из стойбища выгоняют, сначала хорошо накормят и еды дадут, сколько унесет, потом выгоняют.
Элит остановил оленей, поправил упряжь и, снова тронувшись в путь, продолжил:
– Все равно хороших пастухов мало было. Кто старательно пас, у того свое стадо большое было, а в ленивого олени подохли или разбежались. Вот как мы с тобой сейчас: побегаем-побегаем по тундре, продукты все съедим, ничего не найдем, потом будем говорить по рации в контору, чтобы этих оленей списали и новых продуктов побольше прислали. А ему, кто тогда продукты присылал? Вот он и шел ко мне в пастухи. А у меня котел худой, чашки нет, одна консервная банка. Все равно за то, что много людей оленей пасли, кулаком объявили. Даже в тюрьму посадить хотели…
– А за что людей из стойбища выгоняли? – спросил я.
– Как, за что? – удивился Элит. – Убил кого, или обидел очень. Костя свою мать – бабушку Веем ударил. Это самый большой грех. Такого сразу из стойбища выгоняют.
– Из одного стойбища выгнали, а он в другое перебрался, снова людей обижает. Если подлец, то это надолго, – философски заметил я.
– Такого человека ни одно стойбище не примет. Все знают, нельзя такому с людьми жить. Потом, когда выгонят, все равно быстро умрет. В стойбище шаман от людей злых духов гоняет. А когда один – кто гонять будет? Вот и умрет…
К вечеру добрались до первых сопок. В этом месте у нас четыре дня тому назад была стоянка. Но ни оленей, ни даже их следов за весь переход не обнаружили. Правда, приключение в дороге все же было. На спуске к разлившемуся среди тундры озеру олени вдруг начали волноваться. Они то и дело оглядывались, тянули воздух, настораживали уши. Похоже, эти животные ведут себя, если рядом пасутся другие олени или недавно побывал крупный хищник – волк, медведь или росомаха. Мы остановили упряжки и принялись проверять зеленеющую вдоль озера полоску ольховника. Там, где кусты особенно густые, Элит наткнулся на разорванного рысями лосенка. Звери перехватили малышу горло, вытащили через рану язык, напились крови и ушли.
Почва вокруг каменистая и ничьих следов не видно, но в том, что хозяйничали рыси, не было никакого сомнения. Волки, прежде всего, съели бы внутренности, медведь снял шкуру, и часть съел, а часть закопал, росомахи разорвали на куски и тоже спрятали. Других, способных справиться с лосенком хищников, в этих краях не водится.
Чем в это время занималась лосиха – сказать трудно. Может, ее убили браконьеры, а может, уводила от беды второго лосенка? У них всегда так: лишь лосиха заметит хищников, одного лосенка оставляет на месте, а второго уводит.
Все случилось недавно, и можно было бы взять немного мяса на ужин, но Элит запротестовал. Здесь не принято есть убитых хищниками животных, пусть это будут даже домашние олени. Мол, звери очень обидятся на такой грабеж и обязательно отомстят пастуху.
Ночевать расположились на берегу небольшой горной речушки, что струится мимо покрытых зарослями кедрового стланика сопок. Поставили палатку, угостили оленей солью и отпустили пастись. Я советовал Элиту привязать к ним жерди-потаски, но он только хмыкнул: «Никуда не денутся. Ондаты всегда возле палатки любят пастись, пусть даже никто в ней не живет. Он на нее и внимания как будто не обращает, а волка или медведя учует, сразу прямо к палатке бежит».
После ужина Элит лег спать, а я отправился удить хариусов. Вырезал из молодой лиственницы удилище, привязал мормышку и за какой-то час натаскал полсумки.
…И вот так четыре дня подряд. Просыпаемся, когда солнце давно высушило росу, неторопливо завтракаем, собираем пряговых оленей и отправляемся дальше. В дороге Элит или молчит или рассказывает какую-нибудь историю из пастушьей жизни. Мое мнение об этих историях Элита не интересует. Не любопытны ему и мои приключения. Элит глубоко уверен, всякий, кто не пасет оленей, живет пустой, никчемной жизнью и ничего достойного внимания в ней не бывает.
Порой мне вдруг начинало казаться, что мы вообще не ищем никаких оленей. Элит не то, что не говорил на эту тему, но даже ни разу не свернул в сторону, проверить подозрительные следы или хотя бы осмотреть через бинокль окрестности. Не имею представления, вытаскивал ли он спрятанную в рюкзак оленью лопатку? Во всяком случае, я этого не вздел. Посмотреть со стороны – кочуют себе люди от одного стойбища к другому, и больше ничего их не интересует.
Не удивительно, что на пятый день такой жизни от нас сбежали пряговые олени. Все до еденного! Как обычно, вечером мы угостили их солью и отпустили пастись. До полуночи я бродил вдоль реки с удочкой и хорошо помню, как они позванивали колокольчиками рядом. Утром проснулись, а их нет.
Для оленевода не бывает большего позора, чем потерять пряговых оленей. Элит не раз заверял меня, что он самый лучший пастух в тундре, но чтобы он как-то там особо расстраивался от этого события – я не заметил. Побродил по тундре, несколько раз ткнул палкой в кочки, внимательно посмотрел на небо и возвратился в палатку. Немного повалялся на шкурах рядом со мною, и вдруг ни с того, ни сего, спросил, откуда вчера ночью дул ветер? Я пожал плечами. Мол, кто его знает? Увлекся рыбалкой, и был ветер или нет – не имею ни малейшего представления. Вот что сильного ветра не было – это точно, иначе сносило бы леску. А тихий для меня без внимания. Элит от недоумения даже привстал на шкуре:
– Правда, не помнишь? Совсем слабый стал, словно старик. Скоро к «верхним людям» пойдешь.
– А зачем нам ветер?
– Не понимаешь, что ли? Ондаты к отколу убежали. Учуяли откол и убежали. Далеко пасутся. Если бы близко, еще вечером волноваться стали, а так спокойно паслись.
– Почему же мы здесь прохлаждаемся? – загорячился я. – Искать нужно. Совсем удерут, не догоним и за неделю.
Элит длинно посмотрел на меня, снисходительно улыбнулся:
– Я же сказал, далеко ушли. Если снега нет, просто так не найти. Нужно на сопку лезть, ворона слушать. Вчера голодный кричал, обязательно оленей искать будет. За вороном пойдем, он все равно, что волк или росомаха, возле оленей держаться любит.
– А по лопатке разве нельзя узнать?
Элит снова улыбнулся и горестно покачал головой:
– Совсем дурак, поэтому так говоришь. Когда ее жгли, откол совсем в другом месте гулял. Говорю, ворона слушать надо. Он в тайге и в тундре все равно, что женщина в яранге – за порядком следит, и все хорошо знает. Потому как он настоящий хозяин…
– А разве не медведь здесь хозяин?
– Я же говорю, совсем дурак. Его все боятся, стреляют и мясо кушают. Разве хозяина кушают? – Чуть помолчал и дополнил. – Ворон у нас настоящий хозяин, все равно – Бог! Его никогда не стреляют и всегда слушаются…
На сопке, куда мы поднялись слушать ворона, Элит повел себя совсем непонятно. Не глядел по сторонам, ни к чему не прислушивался, а выбрал рядом с пробивающимся из-под камней родничком уютное место, натянул на голову кухлянку и завалился спать. Он вообще любит поспать и одинаково уютно чувствует себя, что в яранге, что под открытым небом. Ляжет, свернется калачиком, и через минуту захрапел.
Я попытался пристроиться рядом, но, промаявшись минут двадцать, оставил это занятие и отправился собирать белые грибы, что густо высыпали по склону сопки. Собирал и все время поглядывал на небо в надежде увидеть ворона и предупредить Элита. Но никаких птиц кроме кедровок не появлялось, да и те почти не подавали голоса.
Я набрал грибов, в последний раз осмотрел все вокруг и спустился к Элиту. Он по-прежнему спал, завернувшись с головой в кухлянку, и, чтобы его разбудить, пришлось подойти совсем близко. Услышав мои шаги, Элит выпростал из-под кухлянки взлохмаченную голову и ни с того, ни сего уверенно заявил, что несколько раз слышал крик ворона. Теперь он хорошо знает, где искать откол и сбежавших к нему пряговых оленей – ондатов. Я пытался доказать, что никаких птиц кроме кедровок здесь не летало, к тому же за шумом выбивающегося из-под камней родника он вообще ничего не мог слышать. Элит не обратил на мои слова никакого внимания. Поднялся, внимательно посмотрел на вершину сопки, и, опираясь на палку, стал спускаться в долину. Там мы, даже не попив чая, торопливо свернули палатку, уложили все в рюкзаки и чуть ли не бегом отправились в верховье струящейся мимо сопок речушки.
Впервые за время поисков я увидел, что Элит и вправду ищет оленей. Он тыкал палкой едва ли не в каждую кочку, руками ощупывал вмятины во мху, то и дело карабкался на скат сопки, чтобы осмотреть все через бинокль. Я куда моложе Элита, но ему то и дело приходилось меня поджидать.
К полудню, когда я в сотый раз проклял себя за то, что ввязался в это каторжное дело, мы завернули в один из многочисленных распадков и, проламываясь через заросли кедрового стланика, покарабкались вверх.
На полпути к перевалу Элит повел себя спокойнее. Осмотрелся, утишил шаги, а затем вообще присел покурить. Он даже, мне показалось, на минуту вздремнул. По выражению его лица я не мог понять, правильно ли идем, и получится ли что-нибудь стоящее из этих поисков. Но во мне вдруг поселилась уверенность, что стоит нам подняться на перевал, как сразу увидим оленей. Более того, захотелось растянуть время перед встречей с ними. Я лег на ягель рядом с Элитом и принялся смотреть на проплывающие над сопками низкие облака…
И потом, когда поднялись на перевал и в открывшейся под нами долине увидели оленей, я ничуть не удивился. Просто потеплело на душе и все.
Элит тоже, по всему видно, ничуть не удивился. Стоял на гребне сопки, курил и смотрел на оленей. А те рассыпались по всей долине от края до края, щипали траву, бродили между кочек. Некоторые просто стояли или лежали. Лишь вчера сбежавшие от нас ондаты держались более тесной группой. Налицо был весь откол. Это можно было угадать по Элиту. Он подобрел, заулыбался, и, как мне показалось, даже глаза его подернулись влажной пленкой.
Но, самое удивительное, здесь же у подножья сопки на склонившейся над долиной лиственнице дремал ворон. Услышав шум камней под нашими ногами, посмотрел в нашу сторону, затем повернул голову к оленям и, тяжело оттолкнувшись от ветки, направился к белеющей снежниками сопке.
Это был первый ворон, которого я увидел сегодня, хотя после того, как Элит заявил, что ему нужно «слушать ворона» да еще и «читать его», внимательно всматривался в каждую появившуюся на горизонте птицу. Почему ворон оказался в этой долине как раз в это время – трудно даже вообразить.
Мы не стали подходить к оленям, развели костер и принялись ладить кораль-загородку для пряговых оленей. Олени из откола то и дело поднимали головы, насторожено смотрели в нашу сторону, а некоторые бежали посмотреть, кто это расположился рядом с ними? Потом с такой же прытью уносились прочь.
– По людям соскучились, – объяснил Элит. – Олень хоть и удирает от пастуха, все равно крепко его любит и очень скучает, если подолгу не может видеть. Бывает, погуляет-погуляет, соскучится и снова возвращается в стадо. Потом опять убежит, и мы везде его ищем. Олень, который много гулять любит, может многих других научить убегать от стада, поэтому его лучше сразу забить…
Мы прожили возле откола почти два дня. Элит несколько раз обходил его, пытаясь удостовериться, все ли сбежавшие олени налицо? Те дичились, но с каждым обходом подпускали ближе. Наконец мы сбили их в тесный гурт и погнали к стойбищу, даже не завернув за брошенными у последней стоянки нартами и оленьими шкурами.
На перевале Элит оставил кусок мяса, объяснив мне, что ворон уже сегодня вечером прилетит проверить, все ли у нас в порядке, а потом сообщит об этом всем живущим в тайге и тундре воронам. Те в свою очередь сообщат новость всем живущим здесь медведям, волкам, лисицам и росомахам. Скоро о происшедшем в этой долине будет знать даже живущая в десяти кочеваниях отсюда маленькая рыжая мышка. Плохо лишь, что не все люди умеют «читать» ворона, из-за чего ходят по тайге и тундре, словно без глаз.
…Уже потом, когда мы соединили откол с основным стадом, я с помощью Элита нарисовал карту наших поисков. Получилось, что мы описали преогромный круг, и вышли к сбежавшим оленям в двух днях пути от того места, где круг должен был замкнуться. Так что и без лопатки мы обязательно наткнулись бы на откол или его следы. И при чем здесь лопатка, мне не совсем понятно.
С другой стороны, в тундре ничего зря не делается.