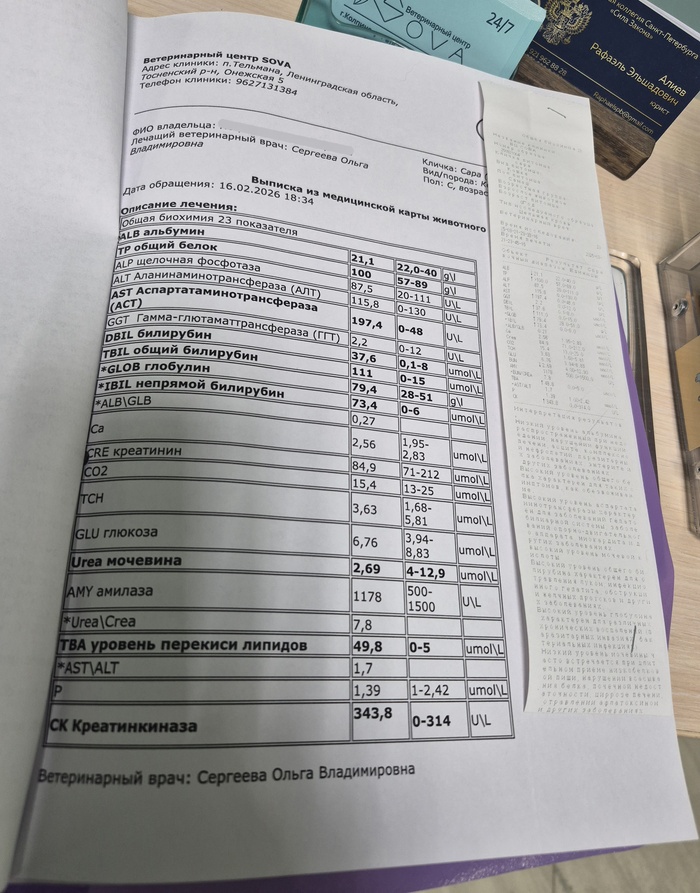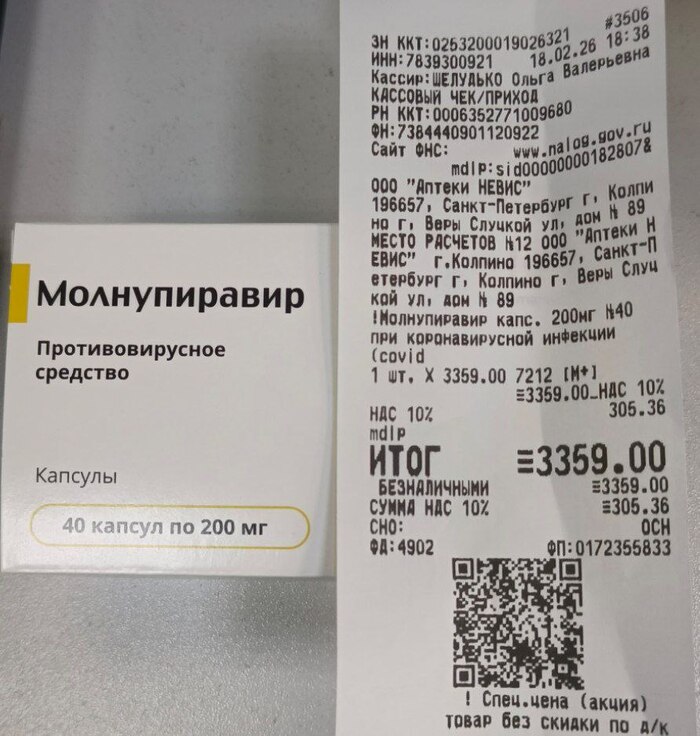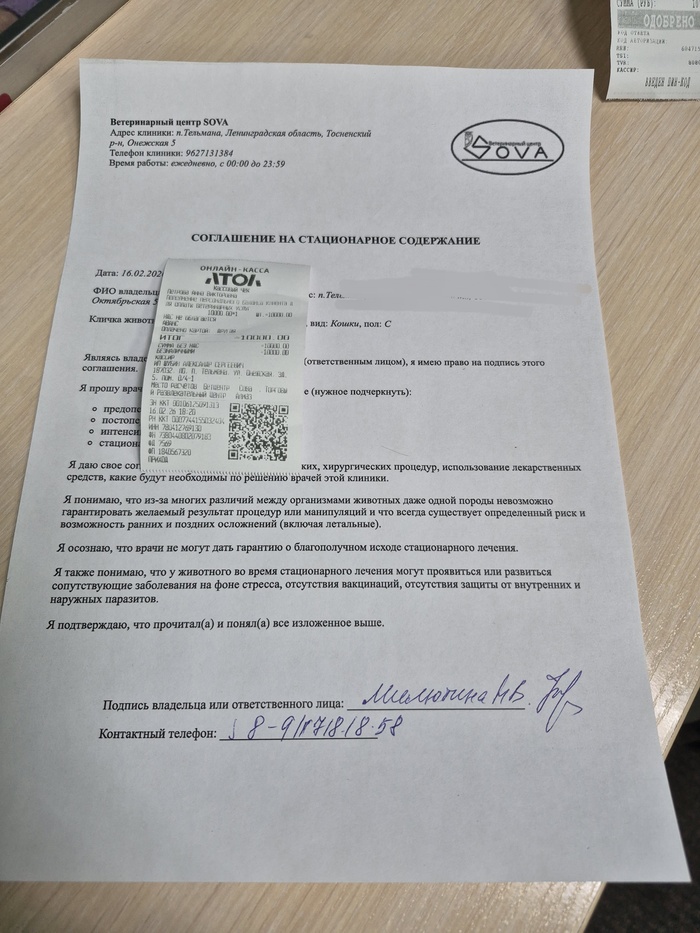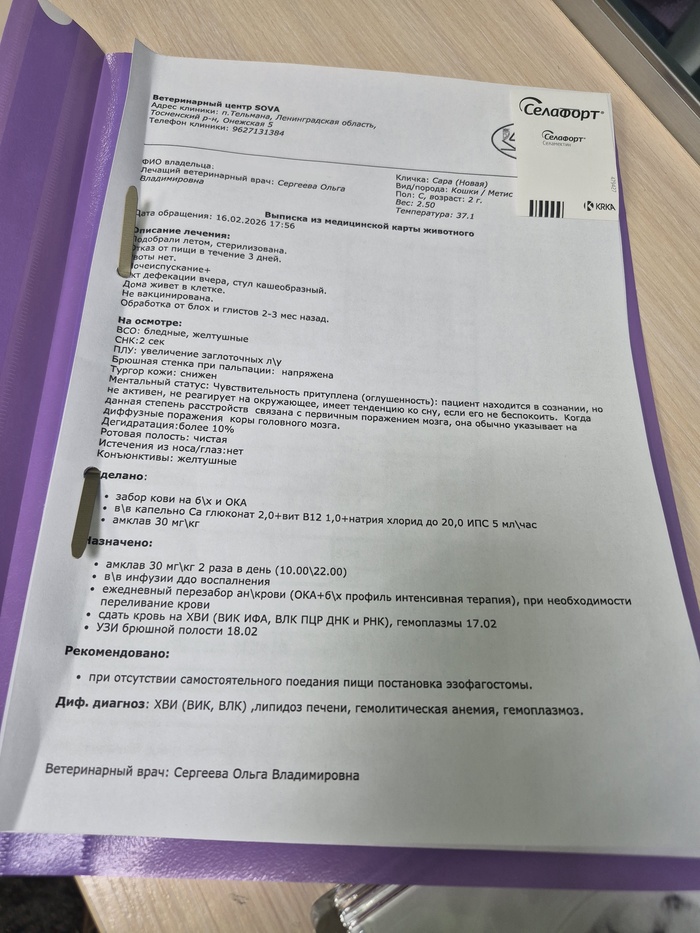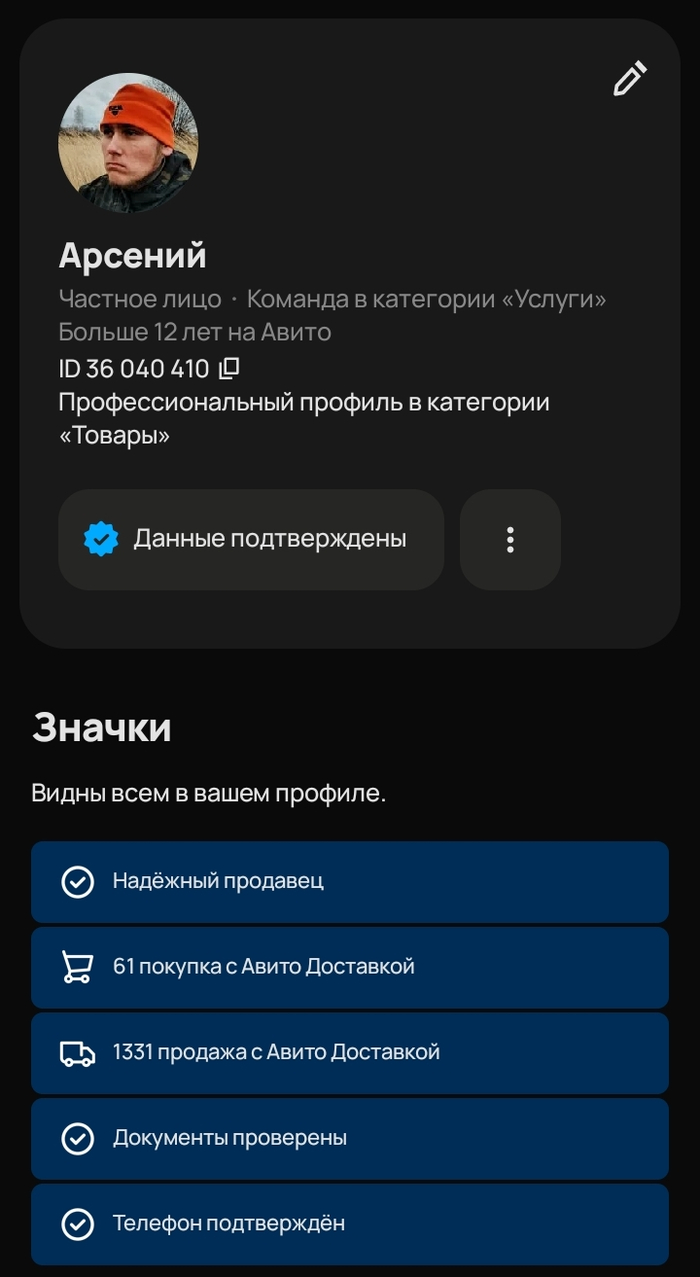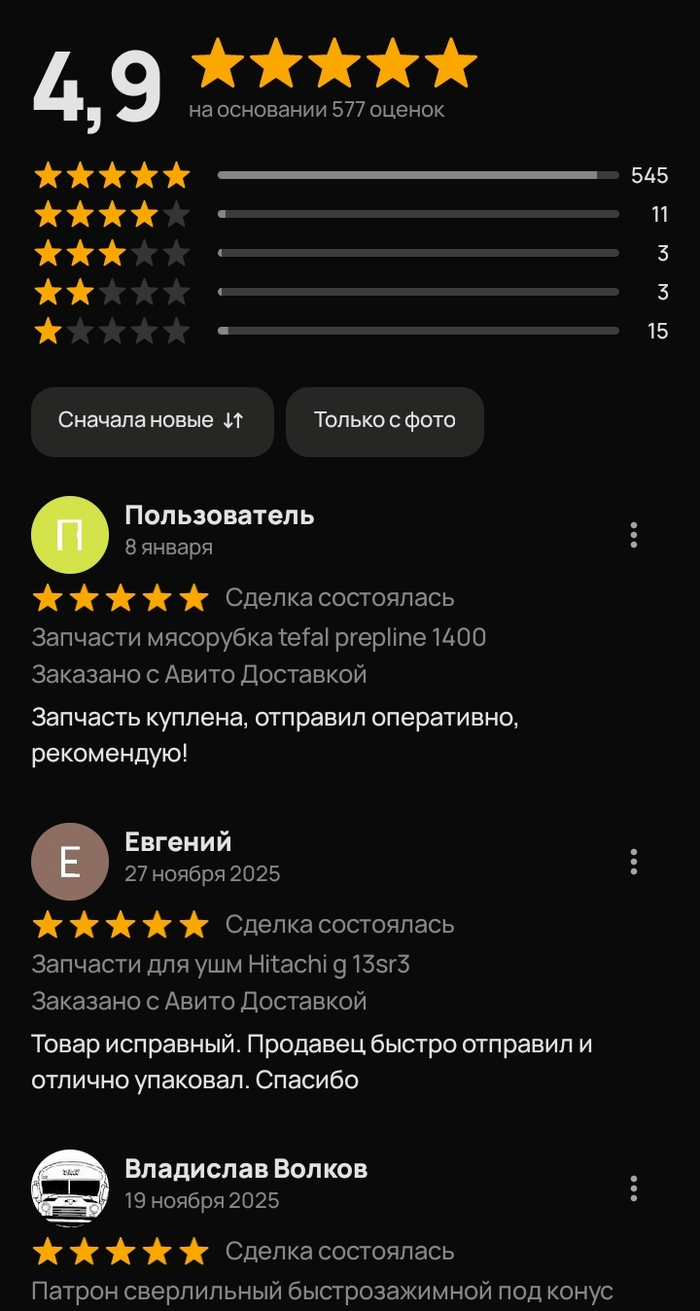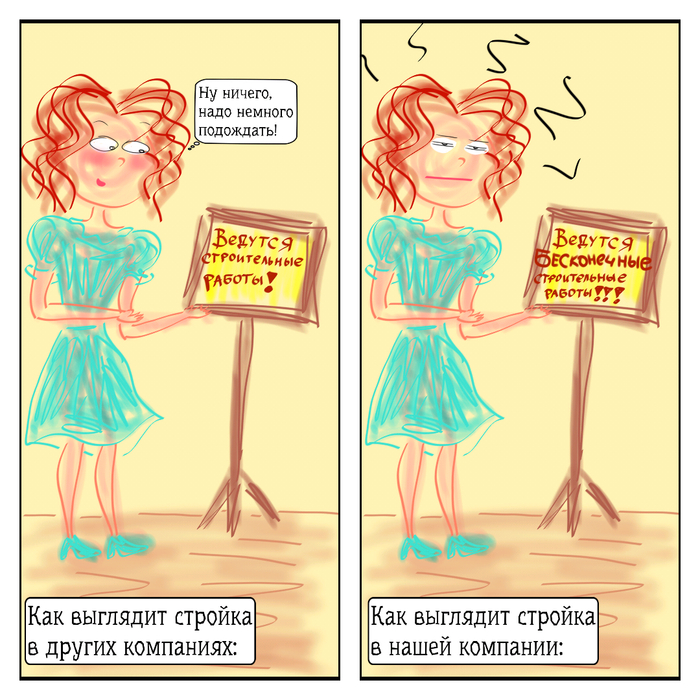Он всегда писал мелом аккуратно, с нажимом, будто каждая буква — это присяга.
В школьном журнале его фамилия стояла ровно, как лозунги в коридоре районной администрации. Тридцать лет — история, обществознание, «патриотическое воспитание». Он говорил детям о стабильности, о вертикали, о том, что государство — это скелет, без которого тело распадается. Он сам верил в это, потому что иначе пришлось бы признать: скелет давно сгнил.
По вечерам он сидел в участковой комиссии. Синяя ручка, кипа бюллетеней, чай в гранёном стакане. «Так надо», — повторял он, перекладывая бумагу из одной стопки в другую. Он называл это корректировкой статистики. Как исправление орфографической ошибки в диктанте. Ошибка — народ. Правка — государство.
За это ему давали грамоту и конверт. Небольшой, но плотный. Он приносил его домой, к облупившейся кухне, к жене с тихими глазами, к сыну, который давно уехал и перестал звонить.
Зарплата всегда была маленькой, но терпимой. Терпение — его главный предмет. Он преподавал его лучше всего.
Потом терпение подорожало.
Цены росли как трава сквозь асфальт. Он стоял в магазине, держал в руках пачку масла и чувствовал, как она тяжелеет. Кассирша смотрела на него так, будто знала его тайну. На экране кассы цифры складывались в приговор.
Он начал считать. Считал в уме, как на контрольной: коммуналка, лекарства, хлеб, проезд. Числа складывались в беззвучный крик.
— Не сходится, — прошептал он.
Ночью ему снился школьный класс. Парты стояли в воде, по щиколотку. Дети молчали, а на доске сама собой появлялась надпись: «Не вывозит». Мел крошился, как зубы старика. Из угла кабинета тянуло холодом — там висел портрет с серьёзным лицом, и глаза на портрете следили за ним, как камеры наблюдения.
Он просыпался в темноте и слушал, как капает кран. Каждая капля — секунда до конца.
В райвоенкомате пахло пылью и железом. Он пришёл туда «просто узнать». Ему выдали брошюру с глянцевыми солдатами. На обложке — небо, чистое и нереальное, как обещание.
— Учителя нам нужны, — сказал молодой офицер. — Там порядок. Там стабильность.
Слово «стабильность» ударило его по вискам. Он сам произносил его сотни раз. Теперь оно звучало как насмешка.
Вечером он снова сел считать. Зарплата и контракт. Жизнь и контракт. Голод и контракт. Цифры вдруг начали шевелиться, расползаться по столу, как насекомые. Он пытался их собрать, но они превращались в маленькие бюллетени, исписанные его почерком.
Он понял с пугающей ясностью: вся его жизнь была подготовительным курсом к этому выбору. Он учил детей подчиняться, и сам подчинился. Он исправлял реальность, пока реальность не исправила его.
Жена молча поставила перед ним пустую тарелку. Это был самый честный документ за последние годы.
Он подписал контракт ночью. Ручка скрипнула так же, как на избирательном участке. Подпись получилась неровной. Впервые.
Когда он вышел на улицу, город показался чужим. Фонари светили жёлтым, как в старом нуарном фильме. Тени домов вытянулись, будто хотели его удержать. В витрине он увидел своё отражение — форма уже проступала сквозь пальто, как призрак будущего.
Снег падал медленно, беззвучно.
Ему вдруг показалось, что вся страна — это огромный класс, затопленный тёмной водой. А он — последний учитель, который остался, чтобы объяснить, почему так вышло.
Но объяснять было некому.