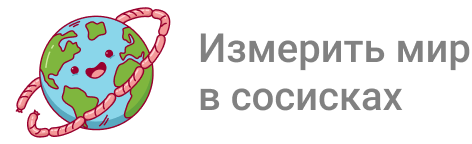Не договорили. 2
Ветер сразу знакомо укусил за поясницу, по привычке в зубах повисла сигарета, глаза уперлись в барабан зажигалки и, временно выпустив улицу из обозрения, Сеня налетел на будто специально поджидавшее за углом тело, рефлекторно отпрыгнул плечами назад, от чего стало немного не по себе за такой трусливый поступок примитивных рефлексов.
- сука, ты слепой, бля? – виновником оказался небольшого роста, пьяно пахнущий мочой и грязью бомжик, вперив свинячьи, заплывшие щеками глазки в асфальт. Человечек поспешил скрыться от лысого и злобного обладателя такого нелитературного оружия.
-э, слышь, я с кем разговариваю, куда пошёл?! – повысил голос заведённый трусостью собственных инстинктов.
-я не хотел, извини! – практически жалобно выдавилось от раздражителя.
-в очко себе «извини» это засунь, псина!
Давить дальше, на глазах у кучки ожидавших остановочных, было как-то стыдно, но поддерживающие взоры соотечественников были замечены и несколько оправдали агрессию. Ситуация со стороны выглядела будто хозяин дёрнул поводком собаку.
Эта аналогия картинкой сразу родилась в голове, как элемент воспитания абсолютно любой породы. И компактную, глазастую, настырную чихуахуа. И ротвейлера – крупного, с характером, крепким костяком и огромной пастью всегда подвергают такой методике. Целые истории хвостатых родословных, легенды селекции и размеры не останавливают владельцев. Даже веками служившие в любой ипостаси, выносливые, строгие, жёсткие, мощные и кровожадные волкодавы, всегда отличавшиеся сильным и сложноподчиненным темпераментом, всё, что заслужили в итоге – ошейники с шипами в шею. И дёргают их всегда так по-хозяйски, как вещь, не думая, что может она и чувствовать, и в глаза смотреть по-человечески.
Так же и Сеня – грязно и без спроса, подчинительно дёрнул этого падёныша, пнул сапогом на место. Но, вовремя остановив приступ психически-больного бешенства своего закомплексованного внутреннего, отвернулся, подкурил и побрёл домой, мысленно перебирая варианты развития ситуации, разумеется, каждый из которых заканчивался беспрекословной, героической победой над напугавшим, и победой обязательно окончательной, насовсем, той самой, насмерть.
3. Первый.
Первого я убил ещё до армии, тогда всё вышло почти случайно, непрофессионально что ли, криво, нервно и через-чур грязно. Заставило спешно бежать, служить любимой Родине, раствориться, слиться с камуфляжем. Радости, разумеется, никакой от потерянного года не было и в жизни сильно плюсов не прибавило, ничему не научило, ничего не дало: ни друзей-сослуживцев, ни умений, ни даже историй, которые можно было бы залихвастки травить в компании, год бесполезного раскрашивания пластмассовых топоров на пожарном щите и блевучих завтраков с маслом. Но я не был найден и не сел – это главное.
Шёл по парку часа в четыре ночи, от своей, резко ставшей всего лишь прошлым, девушки. Поссорились мы тогда последний раз, крепко, с обидными криками в спину и разнообразными пожеланиями наискорейшего «шоптысдохсука». Такая горячая ссора была первой и последней в жизни, с ядовито-горьким послевкусием. Это была не тоска по разрушенному будущему и брошенному, уже в тот момент, прошлому, а обида. Я столько сделал для нас, для неё, столько вытерпел и столько раз себя переломал, чтобы вернуться или вернуть, зная её гордыню или слабость непризнания своих же ошибок и неудач. Обида эта ножом через спину выжигала сердце в первый раз, я не знал, как себя вести и что делать, чувствовать, куда дальше жить, плёлся и бездумно напевал про себя «я не знал, что любовь – зараза, я не знал, что любовь – чума».
Ненависть, злоба и безумная адь родили в глотке острый, огромный ком, который не проскакивал ни с застывшим на пальцах жёлтым дымом, ни смазанный газированным пивом. Идущий силуэт напротив, чёрный, как нота, еле освещенный фонарями, был специально задет плечом, грубо, нагло и больно даже мне, с доворотом, пульсирующая волнами в голове железная жажда насилия ждала всего лишь толчка, чтобы швырнуть меня с обрыва. о
-э, слищ, сматри куда...
Совершенно неважно, что он сказал, я разглядел горбатый изгиб носа, примитивную бровь, сросшуюся черной галкой над глазами, грязные дёгтевые волосы и услышал не членораздельную речь, не слова, а невероятно гадкий акцент – как моральное разрешение самому себе. Морду мою вспорола свирепая улыбка психически нездорового идиота, нос по-собачьи сморщился баяном, пасть выплюнула кабаньи жёлтые клыки, руки мгновенно стали весом с наковальню, в груди с диким воплем, искрясь, взлетела алая от огня Валькирия, взорвав изнутри остатки брони из сплава терпения и внешнего штиля. Левая выстрелила и жадно схватила за глотку ошарашенную от резкой смены ситуации жертву, правая выдала очередь в область поломанных генетикой ноздрей. Остервеневшие кулаки, упитанные злобой, плевали всё сильней и быстрей, пока голова не превратилась в растерзанный кусок мяса с осколками зубов. Вдруг у меня слева на боку стало мокро и тепло, на секунду замер, пытаясь понять, что произошло, и невольно упал на одно колено, как рыцарь, присягая иступленной ненависти в латах и с огромными крыльями. Фонарь специально ярко брызнул светом на нож в мерзко-волосатой, ногтистой ладони врага. Боль гнусно полезла от раны вверх, разрастаясь ржаными корнями по дрожащему от обури телу. Посвящение в орден бешеной ярости было окончено. Валькирия, залитая сталью доспехов, подняв облитую горячей свежей кровью плеть, хлестнула ровно по хребту, выгнула мою спину, истошно завыла и заставила быть сильнее обычной дырки в животе. По венам бросился хмельной мёд победы. Глаза выхватили среди павшей листвы на земле бутылку, горлышко слишком идеально село в ладонь, а донышко слишком остро разбилось об асфальт. Поднимаясь, я апперкотом воткнул его в горбатую глотку, и стеклянная воронка превратилась в бокал кипящего вина. Перелившись, горячая навпитала рукав куртки до локтя, горло засвистело, руки лягались как ужаленные током. Тело, упав на асфальт, ритмично выбрасывало горсти черной липкости, чавкая лёгкими, попыталось что-то крикнуть, позвать кого-то сквозь жуткий хохот ночи.
Но я продолжал. Пинать по чавкавшим рёбрам с хрустом, пяткой вбивать его рваную шею в землю, сечь этим кубком по размешенному лицу, драть за уши, за волосы и снова с остервенением швырять.
Никогда не забуду это незавершённое полупамагите через пузыри солёного и густого, скомканное, резкое и понятное только нам двоим.
Но я его услышал. И в ту же секунду как спала пелена, у ног лежало игрушечное, пустое, мертвое.
- бежим, блять, долбоёб, – заорали откуда-то из самого мозга – беру управление!
И я побежал, как мог, не оборачиваясь, дворами, петлял по ярким, сверкающим в лужах, точкам фонарей, мимо шепчущих лип. Через километра два я вдруг резко осознал, что там, в парке осталось много улик, отпечатков и прочего дерьма, которое найдут дяди в погонах в лучшем случае с самого утра. Закурил и сел на сырой бордюр, в голове быстро составился план. Снял местами приклеенную на кровь куртку, закинул на дерево, если свидетели и видели меня бежавшим, то в красном, свитер был черным. Переквалифицировавшийся в криминальный внутренний помощник давал оригинальные подсказки, интуитивно чувствуя угрозы и уязвимости. Другим путём вернулся, метров за двадцать снял обувь и пошёл босиком «прибираться».
Обшарил карманы ещё теплого куска мяса, забрал документы, Турдиев Музаффар Мустафоевич, кошелёк – собрал трофеи, раздел до трусов, подобрал его нож, бутылку и её осколки, всё в карманы его же куртки, надел её. Всю остальную одежду собрал в кучу, тело подтащил к старой технической будке обслуживания каруселей, прошлое поздоровалось лязгом старого замка в петлях и приветливо махнуло прибитой табличкой
«Не влезай, убьёт!».
- какая ирония, блять, ахуенно вовремя предупредила, надпись ебаная – матерился я вслух.
Ногой легко выбил деревянную дверь, упёрся взглядом в обрезанную канистру отработки, затащил жёваное и грязное внутрь, каким-то карусельным ключом, раздробил «зубную карту», облил и тело, и одежду густым чёрным маслом, еле поджёг и уже третьим путём добрался до своей дырявой, форменно застывшей шкуры, поддел под трофейную.
Боль и онемевший левый бок живота не напоминали о себе до самого прихода домой, сырая грязно-красная штанина джинсов и куртка задубели, как на морозе, превратились в тугой кровавый панцирь. Ключи, домофон, лифт, двери и.
В отражении прихожнего зеркала мелькнул лепесток огня, как от свечки в обесточенном мраке, протирание глаз и шлепки по щекам помогли избавиться от галлюцинаций. Там никак не могло быть никакого пламени, за спиной могла быть только дверь. Поломав глупый страх в корне, прыснул ухмылкой на собственную трусость. Но, как только угол моей, всё ещё больной бешенством, пасти изобразил улыбку – глубокая и невыносимо жгучая боль проткнула насквозь, словно тот самый лепесток прыгнул в каждое нервное окончание раскалённой добела пикой. Тело зарыдало от резкой перегрузки и рухнуло, не включая рефлексов на колени и вперёд, часто задышал, еле распрямляя грудь, захрипел от боли, пытался, хотел, ещё немного, но хватит. Умер.
Ненадолго, пара секунд молчания мотора в звенящей от ожидания тишине, но умер, ничего серьёзного, просто умер, взаправду, не как в детском саду, чтоб какая-нибудь Наташка Иванова поплакала в песочнице, а по-настоящему. Страшно. Холодно. Сыро. Пусто…
Испугав молчанием, насос снова запульсировал. Организм решил перезагрузиться, с проверкой системы и установкой обновлений, долгой и потной, грязной и кошмарной, сознание вместе с телом мелко и трусливо дрожало, пытаясь понять произошедшее, файлы то терялись, то вставлялись застывшей картинкой перед глазами.
Отдыхал я таким лежачим способом около двух дней, не меняя позы, прилипшим к полу, насквозь пропотевшим, мокрым в паху, едко пахнущим. Все, когда-то рабочие конечности, онемели, сквозь бред сна на луже полузасохшей склизкой желейной массы крови, пота, мочи и грязи пальцы криво нарисовали письку
- не, нуачо – последнее, что сказал голос.
Из глубины рассудка он, так вовремя крикнувший в самый центр сознания, и так профессионально помогший избежать наказания, буквально взявший командование за ситуацией на себя, оказался полезным. Больше не покидал, стал своим. Но отдельным, чуть череззаборным, но всегда здесь, за правым ухом. Причастность такого голоса и соучастие его сделали вину за содеянное ненастоящей, будто общей, делённой, одобряемой. Картиной, будто кем-то другим написанной. Двойственность была удобна.
4. Новая игрушка.
Зайдя домой, разделся, вытащил новую игрушку из рюкзака и разложил прямо на кухне. Пока компьютер разгонял кулерами механический сон и оживал, Сеня натянул домашние, заляпанные старостью треники, дёрнул майку с бельевой верёвки, щёлкнул чайник, помыл обувь, руки до хруста, поставил на зарядку телефон и вернулся на кухню. Достал банку кофе, вечно пребывающую в состоянии «пора за новой», и пакет молока. Перемешал с крутым кипятком.
Окно новой игрушки брызнуло светом и потребовало знакомства. Что-то здрастнуло на экране, предложило пароли, синхронизации, цветности и громкости, заставило обозваться и пустило к себе в яркую, красочную заставку. Установив все вайфаи, Сеня принялся вспоминать и устанавливать список привычных программок, настроек и обновлятельных периодов. Расположив папки и, наконец, разобравшись полностью со всеми удобствами он, разумеется, залез в интернеты. Включил музыку, диалоги открыл, там было пусто, никто не звал гулять, зависли неотвеченные сообщения кокетливых дамочек, новости пестрили срочностями сенсационных оттенков, отовсюду тыкалась реклама, будто оставленный без внимания котёнок, знала, что её давно не гладили, в кине казали что-то новое, театр, премьеры, царил быт.
Целый год армии приучил к постоянному социальному окружению, коммуникации, чужому контролю за личным временем, режиму, обедам по часам и без добавок, порядку и всем вот этим публичным людишкам. Было тяжело, только вернувшись, перестроиться в полный вакуум, понять и вдруг осознать полную ненужность себя и собственной свободы. Конечно, друзья устроили и встречу, и приняли, и общались очень активно, но всё же это сильно контрастировало с жизнью в роте. С возвращением одновременно хотелось и людей, и тепла, и сплина. Сегодня победило последнее – единоличного пива, доставочного разговения, потупить в сериал, нещадно смоля потолок, укутаться в меха батареи под светом настольной лампы. Сплина и тепла.
Создав электронный комфорт мониторного пространства, его затянуло в чужие жизни с картинками. Ползая по друзьям и друзьям друзей, и друзьям друзей друзей он вдруг наткнулся на очень давно виденное, но не забытое лицо. Долго думал, откуда и как, пытался вспомнить, соскребал время, и вдруг выросло за мгновение всё и сразу, одной картинкой, кусочком диафильма. Велосипедный Андрюшка и та девчушка с голосом медово-тягучим и безумно тёплым, как мамины руки.
Всплыла выжженная где-то на стенке затылка, случайно глубоко, с самого дна океана затаившейся памяти, огромная скала. Но не свинцовая, гранитно-твёрдая, а наоборот, мягкая, бархатная, густо покрытая мхом, тугим ковром счастливого клевера, усыпанного алыми ягодами.
5. Она.
Оказывается, Её звали Анастасия Владимировна, и удержаться, сухо пройти мимо той картинки из прошлого с малышом между ними двумя, занозой, висящей на руках, не написать Ей сообщение Сеня, конечно, не смог.
Долго спорил, а надо ли? Уговаривал свою неуверенность, страх, что ли, перед ней – Анастасия, да ещё и Владимировна, никак не ровнялась с Сенечкой Уткиным, была явно красивей всех его бывших девочек и девушек, и женщин. Из области фантастики «такая» Она рядом с ним «таким». Его потолок был не выше какой-нибудь глупой, рябой с кривеньким носом продавщицы, или сельской толстушки с комками на ресницах, а тут.
Заоблачная недосягаемость.
Решился. К делу подошёл ответственно, даже академически
- психолог-хуёлог – втыкал внутренний голос подколы под рёбра. Сначала сделал макияж своей контактовой странице. Поудалял лишнюю, совсем вызывающую, музыку, причесал личную информацию школ, годов рождения и университетов, видео скрыл тональником приватности, подстриг новости на стене, обкусал лишние группы и подписки, сбрил позорные знакомства и выбрал из гардероба фотографий более-менее подходящую. Долго искал, какими словами начать, как зайти в эту дверь.
С ноги вынести замок к чёрту и порывистым, голодным ветром вскружить, опрокидывая со звоном вазы, срывая картины, лопая окна и выдирая линолеум из-под ног?
Или аккуратно, по-змеиному, проползти в самый центр, червём изогнуться в самое ядро этой задверной жизни, незаметно, аккуратно, ожидаючи, замереть и медленно сгрызть Её изнутри, обольщая и услащивая, облизывая и обвивая сердце?
Долго играл словами в письме, переставлял предлоги и очерёдность предложений, проверял свою орфографию и пунктуацию, пытался представить реакцию и результат, влияние слогов и ударений. Наконец составил и отправил.
«Я дико извиняюсь за наглость и пошлость «знакомства в контакте», но сейчас, лазая от скуки везде, решил воспользоваться поиском и вбил «самая красивая девушка». Поиск Вашу страничку выдал с увеличенной кнопкой «отправить сообщение» и огромными буквами на весь экран советом познакомиться. Чесна-чесна. А посему вопрос: можно ли с Вами, прекрасная мадемуазель, познакомиться? За написание «мадемуазель» не отвечаю, подчеркивает красным, но вроде всё правильно».
Отправил и пошёл собираться в магазин. Требовательная кофейная банка отдалась до последней крупицы. Пустой холодильник потерял последнего жителя в лице пакета молока. Новая игрушка съела весь портфель по дороге домой и не оставила места для провианта, безвыходно заставив нести себя в тепло и знакомиться. Сеня поддел свитер потеплее, куртку, растыкал по карманам уличную требуху из кошельков, зажигалок, сигарет и прочих мелочей, закинул на плечо, ключи, лифт, улица.6. Чужой.
Холодная поздняя осень. Мягко подсвеченные ветки обездетевших тополей и берёз. Мягко покусывающий ветер. Лёгкая туманная морось.
Такая погода часто навевала Сене какую-то почти осязаемую тягу, жажду к теплу, теплу человечьему, пледному, ужинному и обнимаемому. К рукам любимой женщины, к хвосту собаки у ног, к двери бегом вопящему ребёнку, домашнему, внутрикрепостному. Чтобы зайдя в свою цитадель оставить за глубоким рвом все беды, горечи и переживания, опуститься на дно своего уюта, без штанов в носках и рваной майке.
Мечтательно шёл, заглядывая в чужие тёплые окна. Спрятанные за занавеской очаги – воображение водило его привидением в каждую комнату, где все на своём месте и всегда безбожно заняты своими самыми важными делами. И эти все согреты именно этим мигом, застывшей сказкой именно в эту секунду.
Маленький дворик, как дырка от окурка на карте города, вокруг многоэтажки и огрызки ребячества в песочнице, Сеня сел и закурил у детского гриба, стал впитывать давно невиденное защюренный табаком.
Загорелся свет на кухне, замелькала тень, скорый ужин – ему знакомо. Приготовить что-нибудь быстрое, заглушить голод и вернуться обратно к живущей скоростью света сериальной судьбе героя или компании друзей в игре, искусственно созданному персонажу на тёплый насиженный стул. Или ковыряя вилкой горячие макароны, или глотая холодную колбасу с ядовитым от лимона чаем рыться в документах, зацеплять глазами буквы, срочно, сроки, проверка.
Закричала чья-то форточка, измена, подозрения, прочитанные сообщения и звонки каких-то чужих женщин, и снова, и опять, и до слёз. Истерики с желчью истошности из самой глубины души, лопнутый взрыв, жуткий больной вой, вой недоверия и жалости к себе, к своей судьбе и выбору, от потери последней капли уважения к себе, безвыходной ничтожности и круг за кругом, сначала. Он подходит к ней, извиняется, она рыдает на его плече. Он обещает, но не выполнит. Она верит, но знает и не надеется, но некуда, и уже, да и как без, и …
А за тем тюлем на пятом этаже – девушка, молодая, красивая, умная, но колючая, самодостаточная до слёз от собственной ненужности, и до ненужности непокорная. За дюжиной шипастых драконов когда-то хранящая сердце для него единственного. Но он не пришёл или не стал воевать, или укололся слишком сильно, не захотел, закрыл двери. Теперь от собственных игл отравилась уже она, отравилась и стала всегда ядовитой, ненужной совсем никому. Другие же рыцари, пришедшие погубить драконов, прагматично кричали перед башней – клад не увидят – не поспешат, голову не сложат. Не увидели и развернули коней. Одна и уже привыкла, и уже не надо, и вдруг опять, а уже и не кому, и совсем не такие они теперь, рыцари эти, а тот, первый был лучше их всех, который укололся. Сидит и читает о чужих драконах и рыцарях. И не мечтая уже, забываясь в титлах.
Чу, вышли вдвоём посмеиваясь в одном халате курить на балкон, банально и неудобно, но завидно. Они только что извивались на покрывале, ковре или на стульях, были в объятиях друг друга и были каждую секунду счастливы, первые разы, пьяные, романтичные, с кошачьей скоростью стуков сердца, кротким стыдом после, выбором полотенца для него, пожестче или помягче, розовое или новое. Как сложится дальше или сложилось до этого уже не важно, сам тот миг, мгновение, застывшая чужая сказка.
А там дедуля, кряхтит над кроссвордом перед ещё ламповым телевизором, один, старуха три года как ушла в сырую, тоже привык. И дети помогли, и внуки всегда рядом, и работа какая-то. «Регулярные войска османской империи» – семь букв по вертикали, шестая «эр». Ведь помнил, да в Ташкенте же в семьдесят первом рассказывали на кирпичном, на обучении, как вчера было. «Шестая эр», к чему тут эта «эр», не было её в рассказе, картавил лектор, запомнилось бы, значит тут неверно. «Рисованный мультфильм «Синдбад-…», ну мореход, очевидно, ладно, другой попробуем, ещё бы пару букв, «двухколёсная повозка чаще всего на человеческой тяге», ри-к-ша, подходит, тааак… И со скрипом внутри шевелится помповый мотор, стирая песком времени все суставы, прокладки и переходники. Не нужно уметь читать мысли, их видно, каждая из них еле волочится по старым морщинам. Но не сдаётся старый, кроссвордит.
Подоконник, цветы. Сюда полстакана, сюда, этим поменьше, повернуть к солнцу, кончилась, пшшш, нет, грязная, ульк-ульк-ульк, гррхр, из фильтра, сюда полстакана, сюда, этому целый. Тук. Растут. Красиво.
- растите дальше, через недельку увидимся» - вжик занавеску.
А в другом, на этаж ниже
- да лааадно, ну ты ваще, а она чего? Ага, да щас, да делать вот нечего, тоже нашлась, фифа. Ну, пусть сидит тогда как дура без подарка. Ну, смотри сам. Конечно. Да я бы может и не стала, но чо он так грубо-то, я ж не тупая, ну. Ладно, любимый, пойду собаку прогуляю, ужин да, да не надо ничо, молока только может, хотя не надо, опять прокиснет, опять блины, как хочешь, хорошо, и я тебя – замершая щенячья радость, ожидание, застывшая гудками в трубке улыбка, а ночью засопит в ухо и грубо бросит руку ей на плечо. Такое обычное чужое счастье.
Опять гора посуды, ведь не ели вроде, а весь маникюр переделывать, лак дешёвый слезет, не буду мыть, завтра после работы, его всё равно завтра не будет, пол тоже мыть пора, скатерть вся грязная, тапки тут оставил. Чаю. Надоел как, сил нет, жрёт, спит и телек смотрит, никакого толку. Карниз как висел, так и висит криво, завтра сама сделаю, пусть стыдно станет. Да чёрта с два, не заметит даже. Чайник почистить просила, весь накипел давно, миксер нужен новый, денег нет у него, а телефон купил себе, нахлебник, поганец, зарплату как на пиво тратить, так ничего. А меня вывести куда – так в кино только, поужинать – так в забегаловку какую-то. Бесполезный лентяй… Опустила руки, захлебнулась, судорожно задёргала острыми плечами, захныкала, прижав горячие ладони к своему единственному глазу.
И зачем мне такие вот истерики, эти все обиды брошенные, глаз закатывания, как всё не так будто, как ненужный какой-то. А говорит, нужный. А делает – ненужный, и резко, и грубо, и терплю-то зачем. Нет нахер, другую надо, не уживусь с такой, только ругаться будем. Или не будем, может на работе случилось чего, может утром расстроил чем, мама, может, звонила? Чирк, мпк, уссс, о, фуууу, кашель, плевок с балкона. Видно отсюда, как глаза уже не понимают ничего и больше не хотят пробовать. Как отзеленевшие листья, скрутились, высохли, отдались, падают. Крикнула: «милый, ты идёшь?». Окурок полетел с чужого пятого этажа.
«ПАААПААА ПРИЕЕЕХААААЛ» – заливистый, до мокрых от ожиданья глаз, голосище. В каждом звуке бездонное, непередаваемое, счастье и радость, бескорыстная, святая, вопящая любовь, вечная и неописуемая. Эти наручки, уши, глаза жены с кухни, ревнивые, но тоже радые. Подойдет, обнимает со спины, а мелкая сбоку ноги его, и нету никого больше. Только трое, чужой мир и трое.
Мягко дрейфуя по волнам вымысла, где-то на дне разглядел старый стих, удачно клееный к этим мечтательным чужим, но, будто, знакомым окнам, раздобренный белой завистью за домашнее их тепло, как выныривая из воображения Сеня произнёс его вслух. Стих требовал голоса. Вечер требовал голоса, пусть имитации, но не тишины.
А вон моё окно, там был мой бастион.
и реял флаг,
и плыли корабли,
и счастье разливалось по бокалам,
и было много радости, но лжи
в нём накопилось, и не мало.
а может всё пройдёт, и разовьются тучи вновь,
всё засияет лучезарным солнцем, раздуется и пламя, и любовь
без может! И бороться не способен только мертвый,
сырой, раздутый и кадилом погребённый.
За каждым, всего лишь чуть открытым окошком целая история, жизнь, и не одна, чужие тёплые вещи, мягкие углы кроватей, привыкшие к стенам слова, жёлтый уют из лампы в углу, пятна того самого подаренного вина на скатерти, ровный и тщательно спокойный стук часов в темноте коридора. Чужой стук.7. Андрюшка.
Сеня замёрз. И от делёкости тепла, и поддетого свитера хватило ненадолго. Встал со скамейки и, растягивая шаги по междулужному асфальту, нырнул из чужого заоконного в своё. Настроение полученное подготовило плацдарм для высадки свежей памяти для той мягкой скалы со дна, усыпанной алыми ягодами.
Случилось всего пару лет назад, но казалось... Количество произошедших событий и смен векторов жизни, условий – поставленная на паузу армией против контрастной разнообразием и быстрой – умножали разницу во времени между событиями в несколько раз.
То случайное знакомство сложилось нарочно заложенной бомбой с часовым механизмом. Не тикая, не выдавая себя, чтобы взрыв точно произошёл, точно навзничь и неожиданно, непредсказуемо, окончательно и до пепла.
Одним зимним утром Сеня добирался домой после ночной подработки. Перед ним ковылял пацанёнок с ранцем, лет десяти, ростом по пояс, медленно, бесцельно, полностью погружённый в свои детские мечты и воображённые грёзы. Шёл, соскребая об остывший, испещрённый льдом асфальт замёрзшие каблуки сапогов. Из-за температуры резина на тех застыла и превратилась в жёсткую кость, перебирала по камешкам, как мешок с гравием.
Сеня достал из кармана сигареты, открыл, из пачки выпала какая-то мелочь, почему-то залезшая между картоном и слюдой. Он наклонился поднять, тронул её и, только что стучавший своими подошвами ребёнок, вдруг
- дядь, дай монеточку? - резко, будто специально желая испугать преследователя, застать врасплох неожиданностью, выпалил малёк. Сеня не забоялся, но за дитём это желание как будто заметил в глазах и даже улыбнулся такой игре в «баюськи».
- а тебе на что? - спросил он с улыбкой, как бы утверждая, что нет мол, шкет, не напугал.
- а мне на велосипед!
- какой же велосипед, на дворе декабрь, снег вон лежит, зимой на велосипедах ведь не катаются – внутренний голос, без долгого сна задорничал, сложил монетку, маленького попрошайку и, превратив велосипед в коня, сам себе пошутил
- айнанэ, блять!
- а я на лето копить буду, мне мама обещала за каждую пятёрку два рубля дарить, а я посчитал – всё равно не хватит за год накопить, – с гордостью за решённую математическую задачку вперемешку с грустью от результатов прозвенел ребёнок.
- хм. Подожди, а сколько же у тебя уроков, чтобы не хватило за целый год?
- четыре. И даже если каждый день по пятерке получать хотя бы по одной, получится всего четыре тысячи триста семьдесят шесть рублей, и... и не хватит. А я уже болел почти две недели, а значит и того меньше, и совсем не получится накопить. И сейчас опять горло болит, а я все равно в школу иду!
- ну, какой же ты молодец, а только хорошо ли вот так делать и поступать с ребятками из твоего класса и всей школы?
- а чего я такого сделал плохого?
- ну, вот смотри, ты же болеешь, а если болеешь, значит, кашляешь, чихаешь и сморкаешься. Из тебя летят такие маленькие частички, которые называются бациллами, они садятся на других маленьких ребяток с такими же маленькими мечтами о велосипеде и пятерках, как ты, и они тоже заболевают. Вот тебе, скажи, нравится болеть?
- нет, не нравится, микстуры ещё эти невкусные! – расстроился ребёнок.
- вот видишь, а ты болеешь и других ребяток заражаешь, так делать нельзя, поговори с мамулей об этом обязательно и, я уверен, она это оценит и денежками тебе за это поможет, – как-то по-отцовски, с уверенностью и какой-то неприсущей армейщиной в голосе прочеканил Сеня.
- хм, – задумавшись, с вопросом поднял голову щегол. В ней уже родилась мысль и почти материализовалась в слова, но не успела связаться и выпасть изо рта
- Андрюшка, етишкина жизнь, сколько раз тебе повторять, не разговаривай с незнакомыми и не приставай, все спешат, а ты отвлекаешь только! - откуда-то сбоку из-за кустов, как при наступлении, выбежала девушка.
Путаясь в опавших когтях зарослей, светловолосая, с большими глазами, умеренно впавшими относительно скул, чётко-угловатыми бровями, в чёрном расписном платке, спавшим на шею шарфом, в чёрном пальто, джинсах и чёрных, до блеска отмасляных сапогах на каблучке. Ростом была на полголовы ниже Сеньки, и в два раза примерно выше мальчонки, промелькнула в голове секундная мысль, что со стороны это неплохо бы смотрелось. Подбежала и присела на корточки перед ошалелым Андрюшкой, застегивая до упора, буквально вырывая вверх, молнию и затараторила дальше
- сколько же раз говорить, недавно болел, что ж ты у нас такой непутевый, не брат, а заноза. Здравствуйте, извините – через плечо, не поглядев, бросила Сене – ты почему опять сменку забыл?
- да нет, не за что извиняться, дите смышлёное и ненавязчивое, даже интересное, но да, много рассказывает, находка для шпиёна – намеренно исковеркал и поругал себя за это неуместное льстивое угодничество.
- да всегда так, вы извините, он ко всем взрослым пристаёт с расспросами и разговорами всякими.
- да нет-нет, всё хорошо, не волнуйтесь, в школу-то не опоздает? – продолжал, как будто виновато оправдываться и за разговор с чужим ребенком, и за советы про болезнь, и за секретные знания о семейном бюджете, совсем уж стыдно-интимные, хоть и случайно полученные.
- пойдем скорее, блин, времени-то уже - резко встала, схватила ребёнка за руку и как детский грузовичок на верёвочке потянула за собой. Но дитё, захлебываясь той, уже довязанной, ниткой мысли крикнул - мы не договорили! - и схватил Сеню за руку, тот в свою очередь, испугавшись резкого поворота событий, вообще куда-то не туда, схваченный, побежал за бравой командой опаздующих.
- Андрюшка, отпусти! – чуть нервно через плечо, Она.
- нет, не пущу! – не соглашался Дрюнька.
- Андрюша, дядька сейчас упадёт, дядька устал! – смеясь, с улыбкой поддержал Сеня.
- нет, мы не договорили! – не соглашался Дрюнька.
- Андрей, убью! – уже выше голосом и явно с большим раздражением, не понимая как быть дальше и стыдясь всей, совсем уж вышедшей за рамки нормальности, ситуации
- нет! Не убьёшь, ты меня любишь! – не соглашался Дрюнька.
- Дрюнька, я укушу! – уже сказал Сеня.
- нет, мы… - и он вдруг встал, как вкопанный. А эти двое, держа его за руки и не успев отреагировать, побежали дальше. Не увидев и не поняв причины, рефлекторно испугавшись, что малец упал или поскользнулся, подняли его за руки вверх и вперед и так уверенно, будто делали это в тысячный раз вместе.
Ровно посередине этого акробатического этюда их глаза пересеклись, Её, прищуренные, не карие, а коричневые, Плесский лист, и его, обычные, но в этот момент чуть разогретые, с угольком. Оба поняли и эту единую мысль друг друга, и ту картинку, что нарисовали только что вместе.