Человек, сшитый из противоречий: несказочная жизнь Ганса Христиана Андерсена
Гадкий утенок
Второго апреля 1805 года в датском городке Оденсе, в крошечном однокомнатном доме, где помимо его семьи ютились еще два семейства, на свет появился мальчик. Судьба не потрудилась расстелить перед ним ковровую дорожку. Отцом его был двадцатидвухлетний сапожник Ганс Андерсен, человек, который умел читать и размышлять, но не умел зарабатывать деньги. Мать, Анна Мария Андердаттер, была неграмотной прачкой из еще более глубокой нищеты, женщина суеверная и простая, чьей главной заботой было прокормить семью. Их жилище, заставленное сапожным верстаком, кроватью и складной скамьей, было тем самым «болотом», тем «птичьим двором», из которого будущему великому сказочнику предстояло отчаянно выбираться всю свою жизнь. Бедность была не просто фоном, она была воздухом, которым он дышал. Позже он напишет: «Моя колыбель стояла у самой стены нищеты». Эта нищета была густой, осязаемой, она пахла кожей, воском и сыростью. Отец, вечно недовольный своей участью вольнодумец, читал сыну комедии Людвига Хольберга и сказки «Тысячи и одной ночи», мастерил ему кукольный театр и будил в нем то, что позже станет и его даром, и его проклятием — неутолимую жажду иной, лучшей жизни. Мать же, напротив, таскала его к гадалкам, свято веря, что ее нескладному, уродливому сыну предначертана великая судьба, и однажды он прославит их маленький Оденсе. Этот диссонанс между отцовским скепсисом и материнской верой, между миром книг и миром суеверий, стал первым из множества противоречий, из которых была соткана его душа. Семейная картина дополнялась родственниками, о которых в приличном обществе не говорят: тетка управляла борделем, а сводная сестра работала проституткой. Все это оседало в сознании впечатлительного мальчика, формируя его будущий панический страх перед физической стороной любви и женщинами.
В 1816 году, вскоре после возвращения с фронтов Наполеоновских войн, умирает Андерсен-старший. В его смерти не было ничего героического, он просто угас от болезни, оставив после себя долги, вдовую жену и одиннадцатилетнего сына, чем мир окончательно рухнул. Мать быстро вышла замуж вторично, и для Ганса Христиана места в новой семье, по сути, не нашлось. Он рос сам по себе — долговязый, нескладный юноша с огромным носом, маленькими бледными глазами и большими ступнями. Местные дети дразнили его, взрослые смотрели с жалостью или презрением. Единственным его убежищем стал собственноручно созданный кукольный театр, где он сам кроил костюмы для кукол и писал пьесы. Вдохновляясь Шекспиром, он грезил о театральной сцене, о громком успехе и о сияющем блеске Копенгагена. Эта мечта не была просто фантазией, а продуманным маршрутом к побегу от реальности. В четырнадцать лет, скопив жалкие тринадцать риксдалеров, он объявил матери, что едет в столицу «становиться знаменитым». На все ее уговоры выучиться на портного он отвечал с отчаянной решимостью — его будущее там, в большом городе! Перед отъездом он демонстративно упал на колени и взмолился, чтобы Бог помог ему. Этот драматический эпизод стал первой акцией в его собственной жизни, превратившейся в театральную постановку. Четвертого сентября 1819 года он сел в почтовую карету и покинул Оденсе, имея при себе лишь узелок с одеждой, рекомендательное письмо к одной балерине, которого он добился с неимоверным трудом, и наивную веру в свой гений.
Копенгаген встретил его безразличием и ледяным равнодушием. Он был никем — провинциальным оборванцем с нелепой внешностью и смешными манерами. Балерина, к которой он явился, приняла его за сумасшедшего. Он пошел в Королевский театр, где попытался устроиться актером, но его сочли слишком уродливым. Он попробовал петь, но его ломающийся голос вызвал лишь смех. Он попытался стать танцором в балетной труппе, но его неуклюжесть была очевидна всем. Каждая дверь закрывалась перед его большим носом. Он голодал, ночевал в самых дешевых комнатах и писал трагедии, которые никто не хотел читать. Казалось, столица вот-вот его перемелет и выплюнет. Но в этом странном, отчаянном юноше было нечто, что заставляло людей останавливаться. Его необразованность была вопиющей, но его талант, дикий и необузданный, пробивался наружу. На него обратили внимание несколько влиятельных господ, в том числе и директор театра Йонас Коллин. Это был человек дела, государственный чиновник, далекий от сентиментальности. Он не столько пожалел Андерсена, сколько разглядел в нем потенциал, диковинку, которую можно было бы огранить. Коллин и его друзья собрали деньги и добились для юноши королевской стипендии на обучение. Так, в семнадцать лет, Андерсен оказался за школьной партой в городишке Слагельсе, среди мальчишек, которые были на пять-шесть лет его младше.
Период обучения, который должен был стать спасением, превратился в то, что он позже назовет «самым темным и горьким временем» своей жизни. Ректором гимназии был некто Симон Мейслинг, филолог-классик и педагог-тиран. Он с самого начала невзлюбил своего великовозрастного ученика. Мейслинг видел в Андерсене выскочку, считал его творческие порывы ребячеством и поставил себе целью «воспитать его характер», а по сути — сломать его. Он издевался над его внешностью, высмеивал его стихи, запрещал ему читать что-либо, кроме учебников, и подвергал его унизительной публичной критике. «Вы — глупый юноша, который никогда ничего не достигнет», — твердил он ему. Андерсен, который панически боялся потерять расположение своих покровителей, терпел все. Он был старше своих одноклассников, которые тоже не упускали случая поиздеваться над «аистом». Он жил в доме самого Мейслинга, где чувствовал себя пленником. Это была систематическая психологическая пытка, которая довела его до глубочайшей депрессии и мыслей о самоубийстве. Он писал отчаянные письма Йонасу Коллину, умоляя забрать его, но тот отвечал сухо, призывая к терпению и усердию. Покровители заплатили за его образование и ждали результата, а не жалоб. Этот опыт навсегда выжег в его душе клеймо аутсайдера. Он больше не был частью ремесленного сословия, из которого вышел, но и буржуазное общество, в которое он так стремился, не принимало его за своего. Он был для них диковинным проектом, протеже, но не ровней. Пять лет унижений в школе научили его скрывать свои истинные чувства за маской покорности и благодарности, но внутри него кипела обида. Он получил аттестат, сдал экзамены в университет, но вышел из этой борьбы не победителем, а человеком с глубокой душевной травмой. Он научился выживать, но разучился доверять. Этот период не просто закалил его, он определил всю его дальнейшую жизнь и стал тем мутным, болезненным источником, из которого он будет черпать сюжеты для своих самых пронзительных сказок. Он сбежал из сапожной мастерской, но на всю жизнь остался тем самым «гадким утенком», который отчаянно ищет свою лебединую стаю, панически боясь, что его снова заклюют на птичьем дворе.
Сердечные дела и прочие катастрофы
Выбравшись из школьного ада, Андерсен с головой окунулся в столичную жизнь, но его главная проблема никуда не делась. Он был ходячим сгустком неудовлетворенных амбиций и желаний, и это касалось не только карьеры. Его личная жизнь была таким же полем боя, где он умудрялся проигрывать все сражения, зачастую даже не начав их. Вопрос о сексуальности Андерсена до сих пор заставляет биографов ломать копья. Одни, вроде Джеки Вульшлагер, уверенно заявляют, что он был бисексуален и имел физические связи с мужчинами. Другие, особенно датские исследователи, с пеной у рта доказывают, что нет никаких прямых доказательств его гомосексуальности, и вообще сомневаются, прикасался ли он хоть раз в жизни к женщине. Они предпочитают туманные формулировки вроде «духовной андрогинности». Но, скорее всего, и те, и другие ошибаются, пытаясь натянуть современные лекала на человека, для которого вся сфера романтических и физических отношений была терра инкогнита. Судя по его паническому ужасу перед телесностью, он не был геем в современном понимании этого слова, подразумевающем физическое влечение. Романтический мир был для него настолько сложной и пугающей сферой, что он просто не знал, как в нем существовать. Поэтому он фантазировал. Его «любовь» была не столько влечением к конкретному человеку, сколько отчаянной потребностью в самой драме любви. Его современник, философ Сёрен Кьеркегор, который Андерсена, мягко говоря, недолюбливал, язвительно заметил, что тот «подобен тем цветам, у которых мужское и женское сидят на одном стебле». И в этом есть доля истины. Его дневники и письма рисуют вполне однозначную картину: это был человек, раздираемый мощнейшим либидо, которое он панически боялся и отчаянно пытался сублимировать в творчество. Вся его романтическая стратегия сводилась к одному и тому же сценарию: он выбирал заведомо недоступный объект, будь то женщина или мужчина, и начинал его страстно и мучительно любить на расстоянии. Это позволяло ему испытывать весь спектр эмоций — от экстаза до отчаяния, — который был так необходим ему как писателю, и при этом избегать реальной физической близости, которая приводила его в ужас.
Первой такой «жертвой» стала Риборг Фойгт, сестра его университетского приятеля. Он встретил ее в 1830 году и влюбился моментально и безнадежно. Разумеется, девушка уже была помолвлена. Для Андерсена это был идеальный расклад. Он мог страдать, писать ей патетические стихи и жаловаться на судьбу в своем дневнике: «Всемогущий Боже, у меня есть только ты, моя судьба в твоих руках... Пошли мне невесту! Моя кровь жаждет любви, как и мое сердце». Он сделал ей предложение, получил вежливый отказ и превратил эту историю в свою личную трагедию на долгие годы. Когда он умер сорок пять лет спустя, на его шее нашли маленький кожаный мешочек, а в нем — длинное прощальное письмо от Риборг. Он пронес эту «реликвию» через всю жизнь, как доказательство своей способности к «великой любви». Позже была знаменитая шведская оперная дива Енни Линд, «шведский соловей». Он был одержим ею, посвятил ей сказку «Соловей», где противопоставил ее живой, искренний талант бездушной механической птичке. Он следовал за ней по всей Европе, но она видела в нем лишь «брата», что приводило его в ярость. Он был ей не нужен как мужчина, он был нужен ей как ручной гений, еще один трофей в ее коллекции.
Но самые сильные и откровенные чувства он испытывал к мужчинам. Эти отношения были для него безопаснее — в XIX веке пылкая мужская дружба не предполагала того, чего он так боялся. Главной любовью всей его жизни был Эдвард Коллин, сын его покровителя Йонаса Коллина. Эдвард был его полной противоположностью: сдержанный, прагматичный, твердо стоящий на ногах представитель истеблишмента. Андерсен буквально заваливал его письмами, полными таких признаний, которые не оставляли сомнений в природе его чувств. «Я тоскую по тебе, как по прекрасной калабрийской девушке... мои чувства к тебе — это чувства женщины. Женственность моей натуры и наша дружба должны оставаться тайной», — писал он. Коллин, который не разделял этих восторгов, был в ужасе. Он вежливо, но твердо держал дистанцию, отказывался переходить на «ты» и позже в своих мемуарах сухо констатировал: «Я оказался не в состоянии ответить на эту любовь, и это причинило автору много страданий». Этот сокрушительный отказ стал прямым источником вдохновения для «Русалочки», написанной в 1837 году, как раз когда Эдвард объявил о своей помолвке. Вся боль отвергнутого существа, которое готово пожертвовать своим голосом и своей природой ради любви к человеку из другого мира, который никогда ее не примет, — это боль самого Андерсена.
Самые близкие к физическим отношения случились у него в начале 1860-х с молодым танцором королевского балета Харальдом Шарффом. Этот период Андерсен сам назвал в дневнике своим «эротическим временем». Его записи полны страсти: «обменялся с ним всеми маленькими тайнами сердца; я тоскую по нему ежедневно». Он с восторгом фиксировал каждую встречу, каждый знак внимания: «Шарфф подскочил ко мне, обнял за шею и поцеловал!». Их роман протекал настолько открыто, что вызывал пересуды в обществе. Но, как и все увлечения Андерсена, это тоже было обречено. Страсть угасла, и 13 ноября 1863 года он с характерной для него меланхолией записал в дневнике: «Шарфф не заходил ко мне восемь дней; с ним все кончено». Были и другие: молодой наследный великий герцог Карл Александр, которому он писал, что любит его, «как мужчина может любить только самое благородное и лучшее», и которого благодарил за то, что тот однажды накинул на него свою накидку, согревшую «не только тело, но и сердце». Каждая такая история была для него поводом для душевных терзаний, ревности, отчаяния и, конечно, для творчества. Он был вечным Пьеро, влюбленным в недостижимых Коломбин и холодных принцев, и эта роль его полностью устраивала. Реальные, земные отношения с их бытом, ответственностью и физиологией были для него не просто неинтересны — они были смертельно опасны для его хрупкого внутреннего мира и для его искусства, которое питалось исключительно соком несбывшихся надежд.
Дневник страхов и тайных пороков
Чтобы хоть как-то совладать с кипящим котлом своих неврозов, Андерсен вел дневник. Но это был не сентиментальный журнал юной девицы, а скорее, бухгалтерская книга ипохондрика и отчет о борьбе с собственным телом. Дневник был для него жизненно важным механизмом саморегуляции, способом вынести наружу весь тот хаос, что творился у него в голове, каталогизировать его и тем самым попытаться обрести над ним хоть какой-то контроль. Он с дотошностью аптекаря фиксировал все: от погоды и съеденного на обед до состояния своего пищеварения, зубной боли и, что самое интересное, своих сексуальных порывов.
Его дневники — это откровенный, почти медицинский документ о борьбе с собственным либидо, которое он воспринимал через призму лютеранской морали как нечто греховное и грязное. Запись от 1834 года отлично иллюстрирует этот внутренний разлад: «Моя кровь кипит. Огромная чувственность и борьба с самим собой. Если это действительно грех — удовлетворять это мощное влечение, тогда дай мне сил бороться. Я все еще невинен, но моя кровь горит». Чтобы как-то упорядочить эту борьбу, он придумал специальный шифр, отмечая в дневнике случаи мастурбации крестиком (+) или двойным крестом (++). После визита приятных гостей он мог запросто приписать: «Когда они ушли, у меня было двойное чувственное ++». Эта привычка была для него источником не только душевных мук, но и вполне физических страданий. Страницы дневника пестрят жалобами на то, что у него «болит пенис» или «пенис нездоров». Вдобавок ко всему, его терзал популярный в XIX веке страх, что онанизм ведет к безумию и слепоте, что идеально ложилось на его и без того плодородную почву ипохондрии.
Этот же панический страх перед физиологией породил одну из самых странных привычек Андерсена — его визиты в бордели, которые он в дневнике стыдливо называл «человеческими лавками». Но и здесь все было не как у людей. Он платил проституткам, но не за секс. Ему было достаточно просто поговорить с ними или посмотреть, как они раздеваются. После чего он отправлялся домой, делал в дневнике соответствующую пометку и мучился чувством вины. Одна из таких записей идеально передает суть его натуры: он покинул заведение, «не согрешив делом, но, безусловно, согрешив в мыслях». Он как будто сознательно искал материал, который будоражил бы его воображение, но отшатывался в ужасе от реального физического контакта. Его целомудрие было не результатом аскезы, а следствием глубинного страха.
Но борьбой с либидо список его терзаний не исчерпывался. Андерсен был ходячей энциклопедией фобий. Он до смерти боялся быть похороненным заживо и поэтому часто, ложась спать, оставлял на прикроватном столике записку: «Я только кажусь мертвым». Он панически боялся собак, пожаров (и потому всегда возил с собой в багаже длинную веревку, чтобы сбежать из окна горящего отеля), ограбления и того, что его отравят. Эта тотальная тревожность делала его совершенно невыносимым в быту и обществе.
Его социальная неловкость была легендарной и часто приводила к катастрофическим последствиям. Самый хрестоматийный и трагикомичный пример — его отношения со своим литературным кумиром, Чарльзом Диккенсом. Андерсен боготворил его, и после первой встречи в 1847 году буквально заваливал письмами. Десять лет спустя, в 1857 году, он напросился в гости в его загородное поместье Gads Hill Place. Диккенс, соблюдая приличия, выслал приглашение, ожидая стандартного короткого визита. Андерсен приехал на пять недель. Он ввалился в дом в самый неподходящий момент: брак Диккенса разваливался на куски, атмосфера была наэлектризована до предела из-за его мучительного разрыва с женой Кэтрин. Любой нормальный человек почувствовал бы это напряжение и постарался бы исчезнуть. Но не Андерсен. Он был абсолютно глух к чужим драмам, поглощенный исключительно собой. Он вел себя как гигантский, эгоцентричный ребенок. Когда из Дании пришла газета с плохой рецензией на его произведение, он, не найдя ничего лучше, вышел на идеально подстриженный английский газон, рухнул на него ничком и зарыдал в голос, к ужасу всей семьи Диккенса. Он был совершенно беспомощен в быту и отпускал странные просьбы — например, просил, чтобы один из сыновей Диккенса каждое утро его брил. Дети писателя быстро прозвали его «костлявым старым занудой». Когда гость наконец отбыл, Диккенс, чтобы выпустить пар, приколол в гостевой спальне записку, ставшую историческим анекдотом: «Ганс Христиан Андерсен ночевал в этой комнате пять недель, которые показались семье ВЕЧНОСТЬЮ!». После этого он прекратил всякое общение. Андерсен до конца жизни искренне недоумевал, почему его великий друг внезапно охладел. Эта тотальная неспособность считывать социальные сигналы и крайняя эмоциональная лабильность заставляют некоторых современных исследователей предполагать, что у него могла быть одна из форм аутистического расстройства. Но как бы то ни было, именно эта странность, эта инаковость и делала его тем, кем он был. Его дневник был не просто хроникой событий. Это был клапан для сброса пара, место, куда он мог вывалить все свои страхи, унижения и тайные желания, которые он никогда не посмел бы показать своим высокопоставленным покровителям. Это была тайная, грязная котельная, которая давала энергию для работы его сияющей сказочной фабрики.
Искусство страдать на бумаге
Андерсен, при всей своей социальной неловкости, был достаточно хитер, чтобы понимать, в чем его сила. Он нашел гениальный способ не просто справляться со своими страданиями, а монетизировать их. Его сказки — это не плод беззаботной фантазии, а прямое, почти неприкрытое переложение его собственных травм, унижений и несбывшихся желаний на бумагу. Он этого особо и не скрывал. «Большинство из того, что я написал, — это отражение меня самого, — заявлял он. — Каждый персонаж взят из жизни. Я знаю и знал их всех». Когда критик Георг Брандес как-то заметил ему, что лучшей автобиографией Андерсена является «Гадкий утенок», тот с готовностью согласился: «Да, эта история, конечно, является отражением моей собственной жизни». Его творчество было не бегством от реальности, а ее дистилляцией, превращением личной боли во всеобщий символ.
Нигде это не проявилось так очевидно, как в «Гадком утенке», написанном в 1843 году. Эта сказка — прозрачная до неприличия аллегория его собственного пути из грязи в князи. Главный герой — уродец, которого клюют и шпыняют все обитатели птичьего двора только за то, что он не такой, как все: слишком большой, нескладный и серый. Это точное описание самого Андерсена в детстве и юности — долговязого, нелепого парня с огромным носом, над которым потешался весь Оденсе. Птичий двор — это и есть его родной город, а затем и Копенгаген, который встретил его с таким же презрением. Мучительная, одинокая зима, во время которой утенок едва не замерзает в болоте, — это прямая метафора его «самых темных и горьких» лет в школе Слагельсе под началом тирана Мейслинга, где он был на грани полного отчаяния. А триумфальный финал, когда измученное существо видит в воде свое отражение и понимает, что оно не утка, а прекрасный лебедь, «королевская птица», — это мечта любого аутсайдера, ставшая для Андерсена реальностью. Его, выходца из низов, наконец-то приняли в высшем свете. Короли и герцоги теперь пожимали ему руку, аристократические салоны наперебой звали его в гости. Он стал своим среди тех, кто еще недавно счел бы за унижение сидеть с ним за одним столом.
Если «Гадкий утенок» — это история его социального восхождения, то «Русалочка», написанная шестью годами ранее, в 1837-м, — это памятник его эмоциональной катастрофе, реквием по его безнадежной любви к Эдварду Коллину. Сказка была написана именно в тот год, когда Коллин объявил о своей помолвке, и она буквально пропитана личной болью автора. Русалочка — это сам Андерсен. Она — существо из другого мира, которое отчаянно стремится попасть в мир людей, в мир своего возлюбленного принца. Это точное отражение желания самого Андерсена хоть как-то вписаться в мир земной, физической любви, который был для него так же чужд и недоступен, как суша для русалки. Чтобы получить ноги, она заключает сделку с морской ведьмой и жертвует самым ценным, что у нее есть, — своим голосом. Это гениальная метафора того, как сам Андерсен был вынужден скрывать свою истинную сущность, свою ранимую натуру, чтобы быть принятым в обществе. И какой ценой ей дается эта трансформация! Каждый шаг по земле причиняет ей невыносимую боль, «будто она ступает по острым ножам». Это боль самого Андерсена, который пытался быть не тем, кем он был на самом деле, и каждое мгновение в высшем свете, среди «нормальных» людей, было для него такой же пыткой. Но принц, конечно, не замечает ее страданий. Он любит ее как милого, забавного ребенка, но не как женщину. Он женится на земной принцессе, потому что она «своя», она из его мира. Это прямой удар в сердце Андерсена, чей возлюбленный Эдвард Коллин тоже выбрал «земную принцессу», свою невесту. Финал сказки — квинтэссенция мироощущения Андерсена. Русалочка не получает принца. Она проигрывает. Но вместо того, чтобы умереть, она превращается в дитя воздуха, получая шанс обрести бессмертную душу через добрые дела. Это типичный для Андерсена утешительный приз. Он не верил в счастье на земле, особенно в любви. Для его героев, как и для него самого, наградой за страдания часто становилась не любовь, а некая форма духовной трансценденции, утешение на том свете.
И так было почти со всеми его сказками. «Стойкий оловянный солдатик» — это еще один его автопортрет. Одноногий калека (намек на собственную инаковость), который молча и безнадежно влюблен в прекрасную бумажную танцовщицу, но не может даже подойти к ней. Он стоически переносит все невзгоды — падение из окна, плавание в бумажном кораблике, заточение в брюхе рыбы, — и все это ради любви, которая изначально обречена. Его судьба — сгореть в огне рядом со своей возлюбленной, так и не сказав ей ни слова. Это история о молчаливом, упорном страдании, которое Андерсен считал высшей доблестью. А «Снежная королева»? Это не просто сказка о борьбе добра и зла. Это история о ледяном поцелуе, который замораживает сердце и заставляет видеть мир искаженным, лишенным красоты. Осколок кривого зеркала, попавший в глаз Каю, — это тот самый холодный, рациональный взгляд на мир, которого так боялся сам Андерсен. А маленькая разбойница, которая сначала ведет себя жестоко, но потом отпускает Герду и ее оленя, — это еще один сложный, неоднозначный персонаж, в котором добро и зло перемешаны, как и в душе любого человека.
Или взять одну из самых мрачных его вещей — «Тень». Это уже не сказка, а настоящий психологический триллер. Ученый, человек знания, теряет свою тень. Через некоторое время тень возвращается, но уже как самостоятельная, богатая и влиятельная личность. Она полностью подчиняет себе своего бывшего хозяина, заставляет его притворяться своей тенью и в конце концов добивается его казни. Это кристаллизованный страх Андерсена. Страх, что его публичный образ, его слава («тень») поглотит его настоящего, неуверенного в себе «я». Это страх выскочки, который боится, что появится кто-то более хитрый и безжалостный и отнимет у него все. Андерсен не писал простых историй для детей. Он брал свои взрослые, сложные неврозы, свои страхи, свою боль отверженности и заворачивал их в блестящую обертку волшебства. И может быть, именно поэтому его сказки так бессмертны. Потому что под слоем волшебства в них всегда бьется живое, страдающее, очень человеческое сердце.
Король-попрошайка и его вечность
К середине своей жизни Андерсен получил все, о чем только мог мечтать тот оборванный мальчишка, что сбежал из Оденсе. Он стал знаменит. Не просто знаменит, а всемирно известен. Его сказки переводили на десятки языков, его принимали короли и императоры, дети по всей Европе засыпали под его истории. В Дании его объявили «национальным достоянием», а в родном Оденсе, как и предсказывала гадалка его матери, в его честь устраивали иллюминации. Казалось бы, вот он, хэппи-энд. Гадкий утенок не просто стал лебедем, он стал главным лебедем всего европейского пруда. Но в этом и заключалась главная ирония его жизни: получив все, он не получил ничего. Слава не излечила его от комплексов, деньги не избавили от страхов, а всеобщее обожание не спасло от тотального одиночества.
Он до конца своих дней оставался тем же неуверенным в себе, мнительным ипохондриком. Чем больше его хвалили, тем больше он боялся, что его разоблачат. Он панически боялся критики и мог впасть в депрессию от одной-единственной негативной рецензии в какой-нибудь провинциальной газете, игнорируя при этом хвалебные оды от лучших критиков Европы. Он так и не научился владеть собственностью. У него никогда не было своего дома. Всю жизнь он прожил либо в меблированных комнатах, либо в гостях у своих богатых покровителей, как вечный приживала. Он был самым знаменитым попрошайкой Дании, который постоянно нуждался не столько в деньгах (к концу жизни он был весьма состоятельным человеком), сколько в заботе, опеке и подтверждении собственной значимости. Он мог запросто заявиться на обед к своим друзьям, банкиру Морицу Мельхиору и его жене Доротее, и остаться жить у них на несколько месяцев, превратившись в капризного и требовательного члена семьи. Они стали для него тем, чего у него никогда не было, — настоящей семьей, которая терпела все его выходки.
Его путешествия, которых за жизнь было около тридцати, были не столько тягой к познанию мира, сколько бегством от самого себя. Но куда бы он ни ехал — в Италию, Англию или Турцию, — он везде возил с собой свой главный багаж: свои страхи. Он по-прежнему боялся пожаров, собак, грабителей и зубной боли. Зубная боль была его отдельным кошмаром. Он верил, что количество зубов напрямую связано с его творческой потенцией, и потеря каждого зуба была для него трагедией, предвещавшей скорый конец его таланта. Он так и не завел близких друзей, которые были бы ему ровней. Его окружали либо высокопоставленные покровители, перед которыми он лебезил, либо поклонники, в чьем обожании он купался. Он был мастером самопиара, тщательно конструировал свой публичный образ «доброго сказочника», написав целых три версии автобиографии под названием «Сказка моей жизни». В них он представал эдаким праведником, которого судьба вела за руку из нищеты к славе. О своих реальных терзаниях, страхах и тайных желаниях, которые он доверял только дневнику, там не было ни слова.
К старости его ипохондрия достигла апогея. Он постоянно прислушивался к своему телу, ожидая найти симптомы смертельной болезни. Весной 1872 года он упал с кровати и сильно расшибся. От этой травмы он так и не оправился. Последние три года своей жизни он медленно угасал, мучаясь от болей, которые, скорее всего, были вызваны раком печени. Он провел это время в доме своих друзей Мельхиоров, окруженный их заботой. Они ухаживали за ним как за ребенком, читали ему вслух, записывали под диктовку его последние мысли. Он до последнего дня продолжал работать, но больше всего его заботило то, как он будет умирать и как его будут хоронить. Он панически боялся, что его похоронят заживо, и умолял, чтобы после смерти ему на всякий случай перерезали артерию. Он умер тихо, во сне, 4 августа 1875 года.
Парадокс его наследия заключается в том, что этот глубоко несчастный, эгоцентричный, закомплексованный и одинокий человек создал одни из самых светлых, мудрых и человечных произведений в мировой литературе. Человек, который панически боялся реальной жизни, оказался гениальным знатоком человеческой души. Он, который так и не смог построить нормальных отношений ни с одним человеком, сумел установить незримую связь с миллионами читателей по всему миру. Вся его жизнь была отчаянной погоней за любовью и признанием, которых ему так не хватало. Он искал их у женщин, у мужчин, у королей и у толпы. Но нашел только на страницах собственных книг. В конечном счете, именно там, в выдуманном им мире, где оловянные солдатики умеют любить, а гадкие утята превращаются в лебедей, он и обрел свой настоящий дом и свою бессмертную душу. Одинокий сказочник, человек в футляре, через свои истории навсегда поселился в коллективном воображении всего человечества. И это, пожалуй, самая главная и самая удивительная сказка, которую он когда-либо написал.
***********************
Подпишись на мой канал в Телеграм - там все выходит раньше и доступны тексты, которые я не могу выложить на Пикабу из-за ограничений объема.

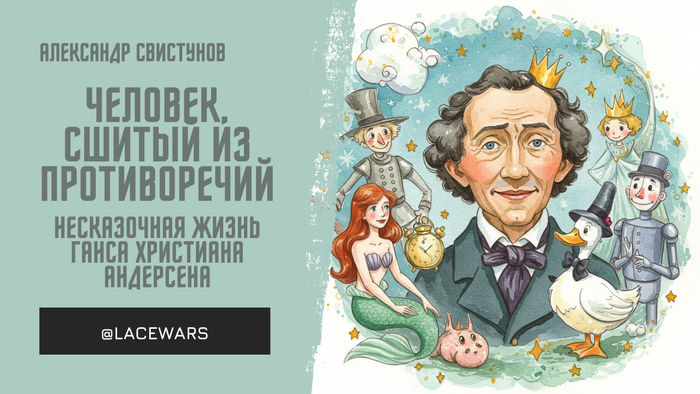



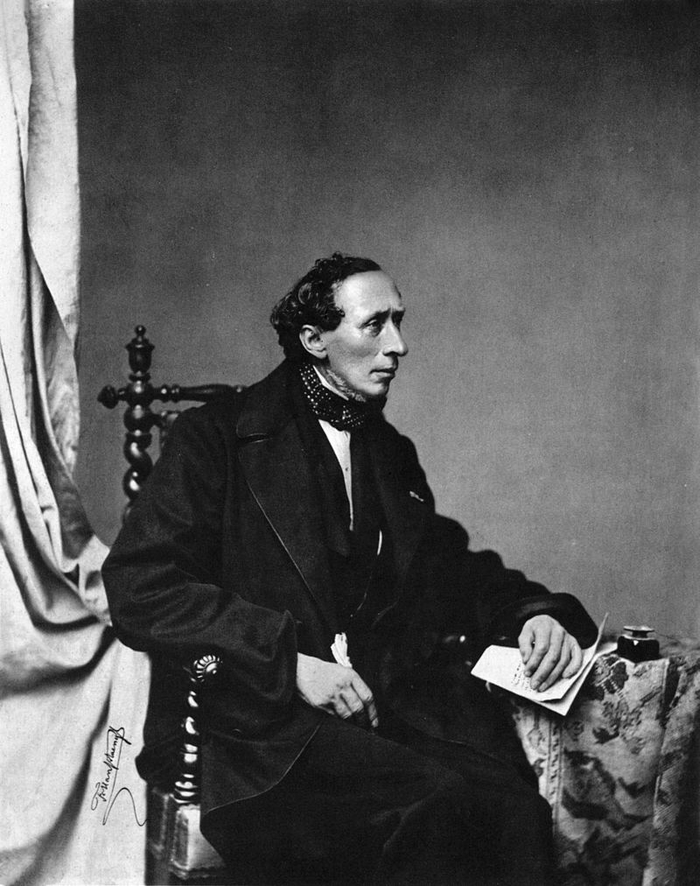
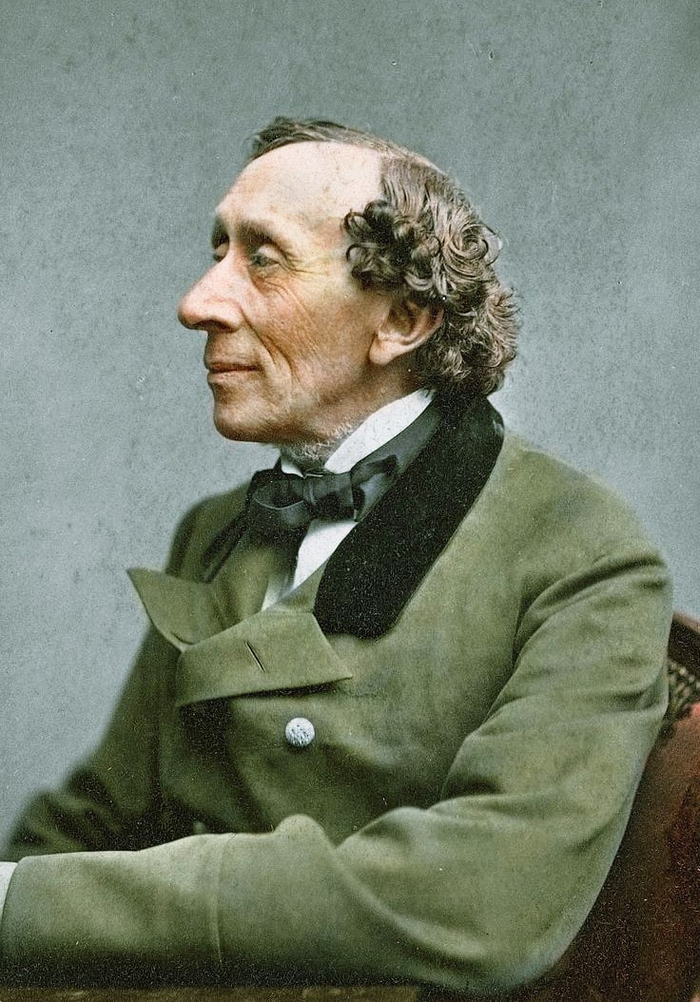
Лига историков
19K поста54.7K подписчиков
Правила сообщества
Для авторов
Приветствуются:
- уважение к читателю и открытость
- регулярность и качество публикаций
- умение учить и учиться
Не рекомендуются:
- бездумный конвейер копипасты
- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации
- чрезмерная политизированность
- простановка тега [моё] на компиляционных постах
- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты
- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)
Для читателей
Приветствуются:
- дискуссии на тему постов
- уважение к труду автора
- конструктивная критика
Не рекомендуются:
- личные оскорбления и провокации
- неподкрепленные фактами утверждения