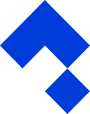ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНУ "КИБЕЛА И ЛАБИРИНТ", Гена Лавник
«У этой книги странная судьба», – такое можно услышать часто, но, как правило, сей оборот используют, говоря о пути текста от рукописи до издания. Мой же роман обзавелся такой судьбой еще до возникновения своего первого черновика. Начну с того, что он написан в тюрьме. Продолжу тем, что его автор до сих пор находится там (я пишу эти строки в тетрадь, что лежит на коленях, сидя на нарах барака в белорусской колонии строгого режима). А теперь вернусь к собственно предыстории.
Всему причиной послужил спор за кружкой пива в одном из минских баров. Дело было так. Представьте: за столиком три человека, что никуда не спешат, неспешный треп под занавес дня. Мы обсуждаем новости и знакомых, делимся планами, ругаем власть и репертуар отечественных радиостанций. Под третью кружку пошли анекдоты и приколы из интернета, потом пришло время горестей и разочарований. Один из моих спутников рассказывает, как буквально вчера выслушал в зале суда приговор, что вынесли его родному брату… Он сокрушался явным несоответствием деяния, его оценки и внушительного срока… Куда же они там смотрят, что творят и всё такое. Желая как-то приободрить парня, я глубокомысленно изрекаю какую-то дежурную банальность. Что-то типа «такова жизнь». Или «всё зависит от ракурса»… Пусть он, дескать, не изводит себя понапрасну, случаются-де вещи и похуже. Некоторым людям в некоторых ситуациях тюрьма идёт во благо. Особенно, когда речь о наркотиках... Третий наш собеседник (его свали Лёша, по прозвищу Потеряга) возмущённо так фыркает, перебивая меня с незаигранным негодованием. Понимаю ли я, спрашивает он, какую чушь несу?! Как вообще можно ставить рядом такие понятия как «тюрьма» и «благо», а? Можно, снисходительно роняю я, можно очень даже, - вальяжно так развалясь на диванчике и потягивая пивко. Как раз я-то прекрасно понимаю, о чём говорю: сам из таковых, из этих самых некоторых. Дальше речь идёт о том – кровь, изрядно сдабриваемая крепким хмелем, приятно щекочет мозг, осознанием собственной правоты, а, впрочем, и значимости, - что в тюрьме я написал нехилый такой роман. И скажу больше, - говорю устало, но твёрдо, - не попади я туда, никогда не написать мне его.
Но ты ведь не хочешь сказать, - этак цедит сквозь зубы тот самый Потеряга, - что согласился бы на это добровольно – отказаться от нескольких лет свободы ради написания какой-то там книги?
Не какой-то, - уточняю я, - а стоящей. Если так, то почему бы не отказаться.
Какое-то время мы молчим. Мои мысли далеко, я вспоминаю те бесконечные четыре года за глухим бетонным забором. Когда я урывками, часто в полумраке исписывал горы тетрадок, создавая первый вариант того романа. Я словно пытаюсь проверить искренность своих слов, сопоставляя цену своих вопроса и результат – действительно: оно того стоило? Взгляд гладит зад гипсовой коровы, денно и нощно стерегущей вход в бар, пока я мысленно оцениваю и два последних года свободной жизни, что пролетели быстро и легко, наполненные благами цивилизации, её запретными плодами, чья сладкая близость парализует волю, плодя бездеятельность, всякими мелкими траблами и иллюзиями, разбившимися о необходимость банального быта. Сам себе говорю, что, пожалуй, оно того стоило: за эти два года я не написал ни одной новой строчки, еле сподобился набрать слегка отредактированный текст в Word`е и подготовить удобоваримый синопсис для рассылки по издательствам. Молчание первым нарушает Потеряга:
Скорее всего ты привираешь, – говорит он с раздражающей убежденностью, его тон чрезвычайно пренебрежителен. – Но если ты сделаешь это, я возьму на себя взрывы в минском метро.
Пришёл мой черед задавать вопрос о понимании и чуши. Понимает он, что речь о теракте идёт? Что за него два человека уже получили «вышку», а приговор приведен в исполнение?
Именно по этому (ухмылка) я ничем не рискую. А ты? Ты готов на такой спор?
Его ухмылка усилилась. Потеряга явно наслаждался ходом разговора: ещё бы, ему никогда не удавалось брать верх в наших спорах, а сейчас ему показалось, что он загнал меня в угол, и я дам слабину. Безусловно, планка нашего пари была задрана высоко, но я, в отличии от моих собеседников, не боялся тюрьмы. Более того, за годы проведённые там, у меня сложилась определённая репутация, позволяющая мне чувствовать себя довольно комфортно даже в условиях изоляции. А вот Потеряга…
Я ответил, что да, готов.
Легко.
Стало быть, ты – дурак, резюмировал мой визави.
А ты можешь только языком трепать, – парировал я, – как обычно.
Парни, парни, – вступил третий участник нашего разговора, – успокойтесь, – действительно, разговор стал принимать напряжённый характер – это же серьёзные вещи, такими не шутят – он тоже понимал, о чём говорил: его брату отмеряли 12 лет усилка за хранение 2-х граммов травы – суд пришёл к выводу, что у того имелся умысел на её дальнейший сбыт (недавно вышедший президентский декрет №6 набирал обороты).
А мы не шутим, - Потеряга. – Мы посмотрим, кто из нас трепло.
Я немного помолчал, подумал. Потом сказал: давай так, ели я сяду в тюрьму и напишу там книгу, не надо никаких признаний и взрывов. Говорю, что я придумал кое-что получше. Помнишь коньяк?
Он весь как-то напрягся и кивнул. Речь шла о бутылке коллекционного Martel`я, которую в далёких 80-х моим родителям привезли в подарок родственники из Польши. Бутылку эту родители хранили много лет, намереваясь открыть на золотой юбилей свадьбы, вот только дожить до него не сумели. Это коньяк был, пожалуй, единственной овеществлённой памятью о родителях, я тоже бережно хранил ту бутылку все эти годы после их смерти, ожидая достойного повода для распития. Но однажды Лёша заночевал у меня. Проснулся в квартире один. На выходе из очередного марафонского забега, ему было плохо, видите ли, грустно и одиноко. Он обнаружил бутылку в баре. Другого алкоголя там не было, и денег, впрочем, у него не было. Естественно, этот урод вылакал её почти всю, где-то с треть великодушно оставив мне. Вернувшись домой, я обнаружил случившееся и, от возмущения, онемел. Потом моё негодование обернулось для Потеряги серией оплеух в голову и ливер, но, в конце концов, я простил его – что с него было взять. Он же ничего про предысторию этой бутылки не знал и так далее, но сейчас, в смысле, тогда в баре, я решил вспомнить ему ту историю и отыграться…
Так вот, - сказал я. Как только я положу перед тобой рукопись романа, ты восстановишь мне тот коньяк. Точно такую бутылку, того же года. Мы даже вместе её разопьём…
Да где ж я достану тончо такую?! – возмутился Потеряга. – Ты же сам говорил, что там была какая-то жутко редкая коллекция!
Вот именно, - согласился я, про себя злорадствуя: это тебе не признание хоть в десяти, но чужих терактах. – Но существуют же интернет-аукционы, где можно и во Франции его заказать в конце концов.
Ты представляешь, во что это мне обойдется?
А ты представляешь, что такое тюрьма? Но, если для меня не проблема отказаться от нескольких лет свободы, то неужели для тебя станут проблемой какие-то деньги. Это же не подлинник Пикассо, это пусть дорогой, но всего лишь коньяк. На него можно заработать, украсть. Можешь хоть насосать. Неторопясь, минетик в день, времени пока я буду сидеть, хватит.
Теперь я наслаждался моментом, а Потеряга смотрел на меня с удивлением и злобой, будто он уже приступил к осуществлению последнего моего предложения. Но во вспышке спички, что осветила тёмный подъезд, он увидел на месте клиента родного отца, который строгим голосом обломал удовольствие от первой после работы затяжки: Лёша? Ты куришь!? Но, к моему удивлению, он согласился, сказал: идёт. Вот только ты ведь можешь выдать за новый, уже написанный роман – его-то никто не читал.
Резонно.
Я сказал, что он может заказать тему.
Он: да хотя бы, как ты «изловил пророка» на прошлой неделе в Новинках.
Годится.
Но если у тебя не выйдет… – он сделал большой глоток тёмного «Талера».
Что?
Если ты не сможешь… Или напишешь полную дичь, которую никто не станет ни читать не издавать…
Я ждал.
Тогда, – сказал он наконец, – я трахну Оксану. Ели она не будет против, конечно.
Мы смотрели друг на друга. Прям битва двух пылающих либидо где-то на кукушкиной хавире. Потеряга едва заметно ухмылялся, я был взбешен – ведь он говорил о моей девушке. Согласен, - медленно выдавил я, но: если через месяц после того, как я положу перед тобой рукопись романа, эта долбанная бутылка не будет стоять передо мной… Да хотя бы на этом самом столике… я трахну тебя. С особым ожесточением. Даже если ты будешь против. Согласен?
Он согласился.
Мы ударили по рукам.
В другое время в ином месте все сложилось бы иначе: я был старше их всех, был уверен в своих силах и действительно не боялся тюрьмы – к тому моменту я провел в ней больше 10-ти лет (еще один нюанс: понимаете, если бы такой спор происходил там… за согласие на такую ставку в любом споре … Потеряшка уже должен был лежать в луже собственной крови с автоматически пониженным социальным статусом… А я вместо этого держал его ладонь в своей – лишь до момента удара по ним рефери, тем не менее – таким образом я ставил себя с ним на одну ступень. Но Потеряшка-то в отличие от меня ни разу не сидел в тюрьме, да и спорили мы не там, а в центре уставшего города, который плевать хотел на наши споры). А в голове шумел алкоголь, да и с Оксаной мы как раз были в лёгкой ссоре (я считал, что она меня явно недооценивает, она, полагаю, считала с точностью до наоборот). Прибавьте к этому ухмылку Потеряги – он-то был уверен, что я спасую, предвкушал победу, – и то, что в баре на секунду все замолкли. Выжидательно, как мне показалось. Не думаю, что ему действительно так нужен был секс с моей девушкой, но и я ведь не мог отказаться от неё вот так запросто – у нас ведь была Любовь.
Все сложилось так, а не иначе.
Я встал и пошел к стойке сделать заказ, по дороге приметив за соседним столиком двух мужчин, поглощенных беседой. Куртка одного из них висела на спинке стула, мимо которого как раз и лежал мой путь. Карман в ней был оттопырен. Возвращаясь назад, я сделал вид, что споткнулся… В кармане лежало портмоне. У меня не было четкого плана, я просто воспользовался ситуацией. При других обстоятельствах не воспользовался бы, а так сходу приступил к исполнению своей части уговора… Копов вызвал бармен (оказалось, он все видел, только виду не подал)… Я все вернул на месте, мои спутники рассказали следователю о нашем дурацком пари, это недоразумение чистейшей воды, горячо убеждали они его… Вот только машина правосудия была запущена с приездом опергруппы. Я, как лицо имеющее столько «былых заслуг» , был взят под стражу сразу же, и, лишь когда дверь камеры захлопнулась за моей спиной, я понял всю глубину абсурдности своего поступка и ситуации в целом. Зачем я это сделал?! Кому нужны такие доказательства моей любви и «крутизны» - может быть Оксане? У которой от стресса несколько дней шла носом кровь, а следом на плечи лег весь бытовой геморррой, собаки, съемная квартира, теперь еще и передачи мне… Как же я мог?!
Боже, до чего ж я был зол! На себя, на Потерягу. Как проклинал эту грёбанную свою «принципиальность». Но сделанного не воротишь. Получив свой срок, я принялся за роман. И, чтобы хоть как-то отмстить Потеряшке, я решил буквально на первых страницах расправиться с ним. А ради усугубления рисуемой абсурдности ввёл в первую часть еще одно убийство, носящее схожий случайный характер, но совсем иные обстоятельства и последствия. Разумеется, в процессе работы персонажи зажили своей собственной жизнью, изменились их имена, целые куски биографий, но вплоть до момента первого убийства, все было именно так, клянусь – ведь таков был уговор – «марочка» в гостях, поделенная небрежно, наше блуждание по Серебрянке, откуда домой нас доставил Потеряшка, сам трип, запись «пророчества» на мой смартфон, установка на новую религию, страх перед метафизической охранкой, клаксон автомобиля, едва не сбившего меня, когда я спешил за джипом через Долгиновский тракт. Даже маникюрные ножницы… Только в реальности они так и остались лежать на прикроватной тумбе. Все остальное, конечно, вымысел, авторский произвол, хотя кто-то, вероятно, и увидит во втором убийстве произошедший в действительности схожий случай.
Милан Кундера писал, что литературные персонажи рождаются не так, как живые люди. Часто из концентрирующей фразы, оброненной случайно, из ситуации. В моем случае, из ситуации родился весь роман, а основные персонажи – из людей в эту ситуацию попавших. Но когда роман, на который повлияли жизни людей, сжался до финальной точки, пружина вымысла стала резко раскручиваться в обратную сторону – роман начал влиять на их жизни.
Наверное, все дело в энтелехии. Одно из ключевых понятий, введенное в схоластику Аристотелем, которое я в меру сил попытался развить в романе художественно. Мысль о форме, что принимает качество, заложенное в нас как потенция. Или возможность. Или, думал я, подбираясь к финалу, его можно назвать предназначением. Когда же следствие стало меняться местами с причиной, и смысловой оттенок стал меняться – в сторону обреченности. Попробую объяснить.
Через полгода-год после спора я смирился. Успокоился. Работа кипела, жизнь продолжалась, злость исчезла: моя девушка вела себя безупречно (стоит ли говорить, как меня вдохновляли доказательства её любви?) – я даже был рад, что всё случилось именно так. Но вот работа завершилась, я знал, что выиграл (хотя к тому времени само пари меня почти не волновало), я лишь предвкушал – не без удовольствия – способы, какими буду истребовать с Потеряшки исполнения его части уговора. Вот только вместо удовлетворения пришла весть, что он умер. Его мозг и внутренние органы не сошлись во мнениях относительно синтетической вариации Кибелы (в романе мифическую Кибелу, Великую Мать Богов, я метафорически наделил чертами природной подземной лаборатории, враждебной роду людскому) – речь о так горячо любимых им «дизайнерских» наркотиках – сердечные клапаны в один прекрасный день просто отказались продолжать работу. А вскоре и моя Муза, любовь к которой я воспел в этой книге (без неё ведь просто не было бы ни спора, ни романа) пристрастилась к другой её вариации – виртуальной. Она ушла от меня в компьютерную игру, в конце концов уехав из страны, чтобы жить с партнёром по этой игре. Я чувствовал жуткую пустоту… Ведь в романе я не ограничился убийством отдельных персонажей, я уничтожил весь наш мир, поставив под сомнение привычную картину его устройства – там я отвёл Кибеле роль пусть пассивной , но вершительнице судеб этого мира. И вот, когда мой персональный мир стал рушиться, когда в моём лабиринте не осталось даже собак – кто-то умер, кто-то перешел на другой уровень – у меня возникло ощущение, что это не я её придумал, а наоборот: выжав все соки, она оставила меня одного – сидеть за закрытыми дверьми, в пустых коридорах темного лабиринта, абсолютно не представляющего в какую сторону двигаться дальше. И всё для того, чтобы эта злосчастная книга была написана? Если такова моя энтелехия, насколько она оправдана? В какой-то момент я эту книгу возненавидел, даже собрался уничтожить её. Но если в лабиринте нет ни выхода, ни входа, то «нам просто ничего не остаётся, как любить друг друга», – не об этом ли я написал в финале романа? Потеряв то, что как мне казалось, вело меня по коридорам лабиринта, я понял, что имело место всего лишь ошибка в оценках – ведь я нашел её буквально за следующим поворотом. Ниточку. Настоящую любовь. И моя Ариадна убедила меня, что людям стоит читать эту книгу. По правде, я не особо спорил.
Кто-то, прочитав это предисловие, скажет, что всё сплошь случайности и совпадения. Но прочтя всю книгу, вы поймете, что и здесь я спорить не стану. Конечно, всё это простое совпадение, никакой мистики, обыкновенная жизнь. Добавлю лишь, что, по моему мнению, случайности – высшая форма энтелехии мироздания. Они дарят нам возможность. Весь наш мир возник благодаря случайности – это также верно, как то, что в нём нет ничего случайного. Вот ещё один штрих в палитре совпадений: когда я только начинал этот роман, в камере СИЗО со мной сидел парень, которого обвиняли в двух убийствах (он уверял, что ни в чём не виноват, просто оказался не в то время, не в том месте). Хотя исходя из опыта, хочу сказать – крайне редко обвиняемые в убийствах признают себя виновными), однажды он уехал на судебное заседание и не вернулся. Позже мы узнали, что его приговорили к исключительной мере наказания. Никто в камере такой вариант просто не рассматривал. Под впечатлением того случая я написал эпизод с приговором Теслы. Но в романе всё перевёрнуто с ног на голову (это же АНТИутопия). Здесь благодаря смертной казни возникает возможность сохранения человека, как биологического вида. Это хороший сюжетный ход, вероятно мощная метафора протеста, в настоящей же жизни, уверяю вас, приговор к расстрелу – это жутко. Опять же, я знаю, о чём говорю: однажды я получил срок за то, чего не совершал, я даже никогда не бывал на месте преступления, но суд посчитал иначе: пять лет лишения свободы, из которых я отсидел почти четыре. От ошибок не застрахован никто, наши суды так и подавно. Четыре года за ошибку, конечно, цена немалая. Но не фатальная. А если тот парень действительно был невиновен? Существует ведь такая вероятность. И даже, если эта вероятность со временем подтвердится, для него ничего уже не изменится. Это будет фатальная ошибка. Чем, при таком раскладе, судья, вынесший приговор, лучше всех приговорённых убийц?
Вчера я прочёл в газете, что начались какие-то переговоры с европейскими структурами, и в них рассматривается возможность хотя бы обсуждения отмены в нашей стране института смертной казни. А сегодня я сел писать это предисловие. Начав движение, главное не останавливаться – таков закон лабиринта.
И, в завершении, вернусь к теме судьбы. Единственные участники этой истории, о чьей дальнейшей судьбе мне ничего не известно – собаки (вот уж кому до этой книги нет никакого дела!). Скорлупа, Чарльз, надеюсь у вас всё хорошо.
Всем заплутавшим в лабиринте посвящается.
Сгинувшим и выжившим.
Потеряшка, покойся с миром.
Оксана, будь счастлива.
Плодитесь, собаки!