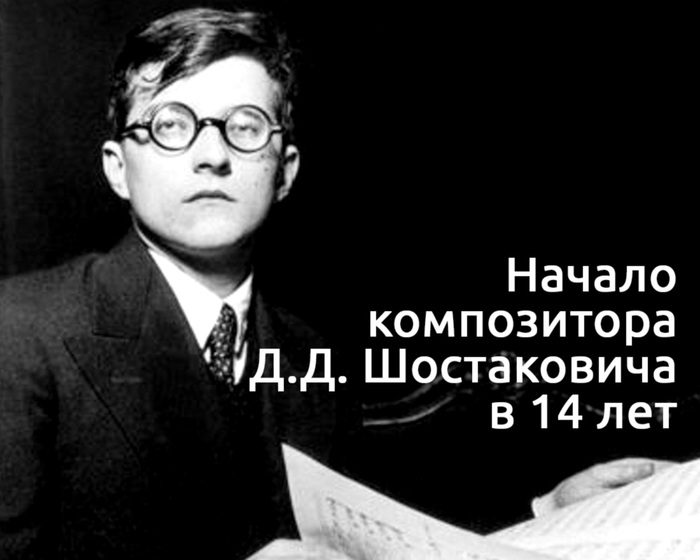Начало композитора Д.Д. Шостаковича в 14 лет
«Экзамены проводились, как обычно, на первом этаже в кабинете ректора, обстановка которого во многом сохранилась до наших дней. […]
Шостаковича экзаменовали Александр Константинович Глазунов и Леонид Владимирович Николаев - ведущий профессор фортепианного класса. Прослушали его фортепианную прелюдию, задали несколько теоретических вопросов, определили абсолютный слух: всей пятерней Глазунов нажал подряд клавиши, Шостакович назвал их, и экзаменатор усложнил задачу, беззвучно опуская то одну, то другую клавиши, а какую - Шостакович должен был узнать, что требовало слуха исключительной остроты.
Итог экзамена был более чем обнадёживающим: Глазунов определил - «моцартовский талант».
Решили, что его занятиями станут руководить: по композиции - М. О. Штейнберг, по контрапункту и фуге - Н. А. Соколов, по фортепиано - А. А. Розанова, подготовившая с ним вступительную пианистическую программу.
От посещения гуманитарных классов консерватории, где изучались литература, история, география и иностранный язык, его освободили: родители, и глубине души всё-таки не до конца веря в его музыкальное будущее, оставляли путь для «отступления» - консерваторское образование он должен был совмещать с обучением в школе. Там он проводил утро, а в полдень шагал в консерваторию (трамваи даже на центральных улицах ходили редко) - по Невскому проспекту, улице Герцена, сворачивая на набережную Мойки мимо бывшего дворца Юсуповых, оставленного владельцами.
Вечером той же дорогой отправлялся обратно - десять километров. Теплого пальто, крепкой обуви не было. Мучил голод. В консерватории выстраивались очереди за похлёбкой с кониной. Иногда привозили кислую капусту, в первую очередь для профессоров. Дмитрий забывал вкус молока, масла, яиц,- его ежемесячный паек, выдаваемый особо одарённым учащимся, составляли фунт свинины и четыре столовых ложки сахара. Развилось сильное малокровие, не переставала болеть голова. […]
Опасаясь за жизнь детей, Софья Васильевна стала подумывать об отъезде из Питера куда-либо на юг, в теплые и хлебные края.
Но Дмитрий воспротивился решительно, воспринимая даже недолгое расставание с консерваторией как непоправимую катастрофу. Талант, слишком долго, робко пробивавшийся, теперь властно требовал творческого выражения. А для этого нужны были твёрдые и основательные знания. И Дмитрий устремился к ним с жадностью, с той непреоборимой настойчивостью, которая стала отличать его во всем, что относилось к музыке, к профессии.
Вырабатывались удивительная быстрота действий, точность, внутренняя организованность, позволявшие ничего не упустить, всюду успеть. Неиссякаемые веселость и насмешливость вытекали из жизненной активности, служили инстинктивным «противоядием» от голода, уныния. Пройдёт совсем немного времени, и зерна этой активности прорастут в его музыке, возвысятся до обобщения. […]
Хотя на первых курсах консерватории в то время классов практического сочинения не было, Шостакович стал приносить Штейнбергу свои композиторские опыты: 1919 годом датировано Первое скерцо для оркестра - двадцать шесть страниц партитуры с посвящением М. О. Штейнбергу (оригинал хранится в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии), в 1920 году была показана учителю целая опера - «Цыганы» по А. С. Пушкину, написанная по всем правилам: увертюра, арии, ансамбли. […]
Таким образом, с четырнадцатилетнего возраста Шостакович сочинял музыку регулярно: именно 1920 годом он и обозначил начало профессиональной композиторской деятельности».
Хентова С.М., Шостакович в Петрограде Ленинграде, Л, «Лениздат», 1981 г., с. 22-25.