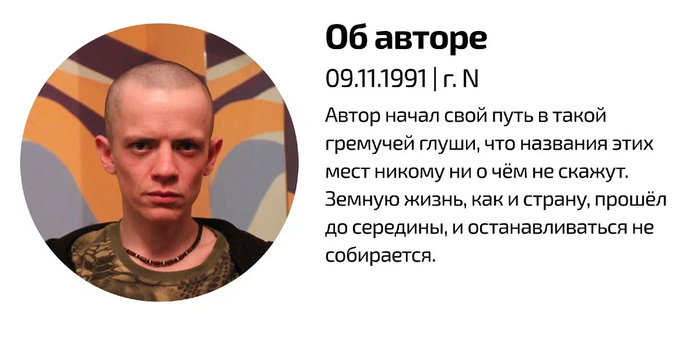«Философия одного переулка» А. Пятигорского: опыт художественной философской прозы | Андрей Янкус
В литературоведении не существует общепринятого понимания философской прозы [Агеносов, 1986; Бенькович, 1991; Rickman, 1996; Ross, 1969]. Ю. Микконен противопоставляет «философию как академическую дисциплину» и «философию как… исследование основополагающих вопросов, касающихся человеческого существования, познания и ценностных установок» [Mikkonen, 2013]. Последнее определение предполагает и свободное философствование субъекта в жанре эссе, в риторическом или диалогическом дискурсе, и опосредованное философствование, переданное автором другим — персонажам вымышленного мира. Авторское философствование может проявиться в метафорах картин и историй, когда весь образный мир воспринимается как знаки, метафоры или символы авторской мысли. Наконец философское значение имеет и собственно художественная проза без философствования автора и/или персонажей (речь идёт о философичности художественной прозы вообще).
Основным признаком философской художественной прозы можно считать совмещение изобразительного плана с глубокими обобщающими размышлениями персонажей, повествователя или собственно автора. По мнению В. А. Лукова, «принцип философствования предполагает, что основными героями произведения становятся не персонажи, а идеи» [Луков, 2006]. Можно выделить два типа взаимодействия художника с философскими системами: в первом случае произведение основано на определённой философской системе (таковы произведения Вольтера, романы А. Камю, Ж.-П. Сартра, А. Мёрдок [Никулина, 2014]). Во втором случае автор сталкивает разные философские концепции, проверяет их и строит текст на процессе рождения собственной концепции.
Роман «Философия одного переулка» А. М. Пятигорского (1989 год), казалось бы, можно отнести к первой группе, поскольку автор — профессиональный философ и его концепция сложилась не в процессе творческого воображения, а в ходе философских исследований. Тем не менее обращение к художественной прозе вызвано задачей не иллюстрации философских идей, но продолжения философствования о жизни и сознании человека в процессе нового переживания жизни уже в позиции отстранённого сознания; рефлексии не идей, а опыта обдумывания реальности и самого себя в ней. Автор, анализируя в интервью процесс рождения романа, говорит: «…ко мне снова возвращалась моя жизнь, но — исключительно в разговорах. Всё-таки главными были именно разговоры» [Пятигорский, 2011].
В основе фабулы — история Николая Ардатовского (от 30-х до 80-х годов XX века), мальчика из семьи московских интеллигентов, которого удалось вывезти за границу, где он становится бизнесменом. Детское и романное имя Ника имеет семантику победы над обстоятельствами. Фокусированный герой, второй центр романа — повествователь, биографически близкий автору. Его имя — Саша; он знал Нику в детстве, встречается и переписывается с ним в зрелом возрасте и не рассказывает о событиях жизни Ники, а разгадывает сущность его судьбы, характера, ценностей, философии. Он восстанавливает интересующую его жизнь не только по собственным воспоминаниям, но и по рассказам друзей детства (Роберта и Гени прежде всего), воспоминаниям самого Ники. Интерес к жизни и пониманию жизни Ники становится поводом для исследования судьбы поколения рождённых в СССР в 20-е годы. Рассказчик остаётся в СССР до 70-х годов, где становится профессиональным философом, затем эмигрирует, преподаёт философию в Лондонском университете. Оставшиеся в СССР персонажи по-разному вписываются в советскую реальность: Роберт ищет социально активной деятельности, успевает попасть на фронт, но его судьба после войны не истолковывается рассказчиком, неинтересна ему; Геня всю жизнь работает помощником библиотекаря, хотя сам не читает книг. Его существование маргинально.
Пятигорского интересует судьба поколения идеалистов, книжных, философствующих мальчиков в эпоху, в которой утверждались общие и социальные идеалы, причём идеалы, толкающие к их осуществлению, участию в создании идеальной цивилизации (намёк на воспитание таких людей дан в образе элитной школы недалеко от Обыденного переулка, где проживают дети старой интеллигенции, не принимающей ни советские ценности, ни советскую реальность). Центральной фигурой в поколении старших предстаёт дедушка из семьи Ники, носитель философии созерцания (не борьбы и не созидания) — Тимофей Алексеевич. Благодаря ему все персонажи вовлекаются в философские беседы, что позволяет автору показывать персонажей как субъектов понимания жизни, не идеологов, а ищущих объяснение реальности, философствующих. Основой сюжетостроения становятся беседы о событиях истории, о культуре, вере, слове и поступке. Беседы не абстрактны, они спровоцированы социальными ситуациями: репрессиями 30-х годов, Второй мировой войной, духовным кризисом послевоенных лет, духовными исканиями 70-х годов. Невозможно отделить разговоры персонажей о конкретных событиях от философской беседы, объясняющей отношение к событиям логикой, культурным опытом, что связано с авторской установкой: «Философ наблюдает не жизнь, а жизнь сознания» [Пятигорский, 1992]. Но разные беседы, происходившие в разные времена, дают представление о том, как изменяется понимание жизни персонажами и чередуются идеи времени в поколении интеллигентов 30–80-х годов.
Беседа для героев Пятигорского — это способ философствования. Философия созерцания — это не пассивное наблюдение, она требует определения своего отношения к жизни, самооценки, объяснения своей позиции: «…не вовлекайся, но и — ни в коем случае — не скрывайся» [Там же]. Герои обсуждают вопрос о возможности быть субъектом собственной биографии и социальной жизни. Их темы — религия, метафизика, социальные системы, физиология, язык — сводятся к проблеме свободы мышления. Созерцание не освобождает от мышления. «…в несозерцающем нет кого», — говорит дедушка, подразумевая, что вне наблюдения нет жизни субъекта, лишь механическое существование. В ходе беседы персонажи приходят к метапозиции, поскольку именно в беседе возможна встреча с Другим, который становится источником «метафизического намёка», нарушая монологичность и замкнутость сознания. Намёк как реплика в беседе, противопоставленный монологу и даже диалогу, в которых сформулировано чужое знание, — важнейшая категория в философии созерцания. В поздних беседах с рассказчиком Ника говорит: «…знающие нашего времени прибегли к намёку как к способу наведения могущего и хотящего знать на знание. Но намёк крайне опасен для идиота, ибо он постарается увидеть в нём подтверждение, положение, правило или, что страшнее всего, руководство к действию» [Там же]. Как намёки в речи взрослых воспринимаются героями в детстве? Тех, кто способен к осознанию, намёк наводит на знание: «С тех пор я и свихнулся», — комментирует Геня одну из бесед, услышанных им в детстве. Идиот же видит в намёке подтверждение помышленного им: так юный Ника стремится к остановке в понимании: «Я понимаю, — обрадованно проговорил Ника, — меч — это метафора». «Не думаю, — заметил дедушка. — Меч — это меч» [Там же]. Дедушка стремится уберечь Нику от остановки мысли, он отрицает возможность окончательной расшифровки.
Изначально источником для интерпретации жизни персонажами-детьми становится не сама жизнь, недоступная ни опыту, ни пониманию, но обсуждение её взрослыми. По Гадамеру, «понять нечто можно лишь благодаря заранее имеющимся относительно него предположениям, а не когда оно предстоит нам как что-то абсолютно загадочное» [Гадамер, 1991]. Изменчивый мир, предстающий как поток феноменов, есть нечто загадочное или даже ничто для того, кто не превращает события жизни в события сознания. В отсутствие личностного бытия нет субъекта, переживающего нечто; оттого у незнающего нет судьбы: не философствуя, он не является её субъектом. Поэтому в романе прослеживаются судьбы тех, кто склонен к созерцанию, т. е. философствованию. Так, исчезает судьба Роберта, переставшего быть созерцателем, а Андрей становится героем, только начав философствовать. Мышление понимается Пятигорским как интенционально направленное к Бытию, выход к которому из эмпирической реальности происходит по модели герменевтического круга. Беседа взрослых ставит мысль героев на первый виток круга понимания. Таким образом, многие идеи проговариваются персонажами в порядке «удачного реагирования словами» уже в детстве. Услышав из разговора во дворе о релятивности культуры, Саша в тот же вечер выдаёт это на семейном ужине. Но Другой вышибает Сашу из принятой извне концепции, спрашивая: «Культура релятивна чему?» Саша конструирует «правильный» ответ из обрывков услышанных во дворе диалогов: «…она релятивна лежащим вне её духовным целям её носителей и одновременно их интенциональным состояниям, например — созерцательности» [Пятигорский, 1992].
Взрослеющие персонажи в изменяющейся исторической ситуации обращаются к тем же проблемам, но их беседы не повторяют и не опровергают прошлые суждения, а развивают или варьируют понимание явлений, высказанное в ранних беседах. Они рефлексируют, контролируют себя и жизнь своего сознания: их интересует, являются ли они субъектами собственных суждений или же любая мысль детерминирована языком. Критерием свободы мышления становится критическое отношение к любому суждению.
Несвободным сознанием наделён ещё один «книжный» мальчик, Гарик Першеронов. Источники его знаний — отец, советские книги и лекции, то есть набор идеологем и мифов. Поэтому Гарик исчезает из романа, он не интересен философствующему взрослому рассказчику Саше.
На авторском уровне череда бесед, являющихся центрами отдельных глав романа, конструирует сюжет развития философских тем, формируя тип «романа самоосознания», как называет свои романы сам Пятигорский: «Роман не может быть (или стать) жанром философского письма, но он мне представляется наиудобнейшим жанром для экспозиции самоосознания философа» [Пятигорский, 2013].
Варьирующиеся, перетекающие одна в другую темы можно разделить на три группы:
1. Тема надличностного влияния на человека: разговоры о влиянии социума, религии, метафизических сил.
2. Тема физиологии, пола как обсуждение онтологичности присутствия.
3. Метатема: слово, сознание, понимание, философия созерцания, собственно философская беседа.
Помимо композиционной связи философских тем, беседы получают комментарий рассказчика; сноски к изобразительным сценам и высказываниям персонажей разрушают иллюзию замкнутого художественного мира, формируют авторский метатекст, новый герменевтический круг, отталкивающийся от бесед персонажей. Текст обретает элементы авторефлексии, которая, по М. М. Бахтину, является родовым качеством романа. Актуализируется родовая память жанра, имеющего истоком сократический диалог: «…жанр мемуарного типа… записи на основе личной памяти действительных бесед современников; характерно далее, что центральным образом жанра является говорящий и беседующий человек» [Бахтин, 2000]. Философский диалог описывается исследователями как философский жанр «с особым присущим ему недогматическим способом разъяснения философской мысли» [Многообразие жанров философского дискурса, 2001].
Роман «Философия одного переулка», обладая названными чертами, не является текстом философского дискурса, что связано с авторской концепцией сознания: оно изменчиво, дискретно, но не релятивно; оно находится в постоянном движении, поскольку интенционально направлено к бытию, а бытие изменчиво. Персонажи Пятигорского, ведущие философские беседы, остаются включёнными в исторический процесс, в бытие как таковое, что позволяет автору изобразить мышление не в качестве завершённых в себе концептов, но в качестве «мгновенного совпадения сознания, мысли и бытия личности» [Там же].
Таким образом, текст «Философия одного переулка» проявляет свойства философского романа, включая как рассуждения (на авторском и персонажном уровнях) на философские темы, так и образное воплощение действительности, которая становится поводом и предметом для мышления.
Список литературы
1. Агеносов В. В. Генезис философского романа. М. : МГПИ, 1986.
2. Бахтин М. М. Эпос и роман (О методологии исследования романа). СПб. : Азбука, 2000.
3. Бенькович М. А. Из истории русского философского романа. Кишинёв : Штиинца, 1991.
4. Гадамер Г.-Г. Философские основания XX века // Актуальность прекрасного. М. : Искусство, 1991.
5. Луков В. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. М. : Академия, 2006.
6. Многообразие жанров философского дискурса. Екатеринбург : Банк культурной информации, 2001.
7. Никулина А. К. Жанр философского романа в творчестве Торнтона Уайлдера. Том 20. Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2014. С. 1506–1510.
8. Пятигорский А. М. Философия одного переулка. М. : Прогресс, 1992.
9. Пятигорский А. М. Философская проза. Том I. М. : Новое литературное обозрение, 2011.
10. Пятигорский А. М. Философская проза. Том II. М. : Новое литературное обозрение, 2013.
11. Mikkonen J. The Cognitive Value of Philosophical Fiction. Bloomsbury Academic, 2013.
12. Rickman H. P. Philosophy in Literature. Cranbury, NJ : Associated University Presses, 1996.
13. Ross S. D. Literature and Philosophy : An Analysis of the Philosophical Novel. NY : Appleton-Century-Crofts, 1969.
Редакторы Алёна Купчинская, Софья Попова
Другая современная литература: chtivo.spb.ru