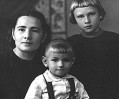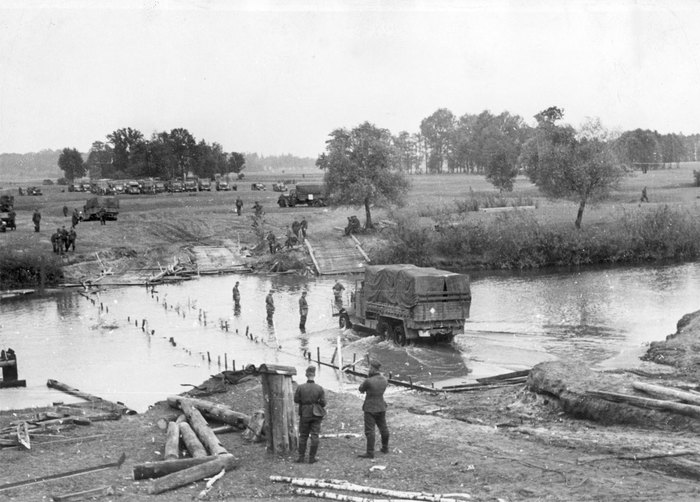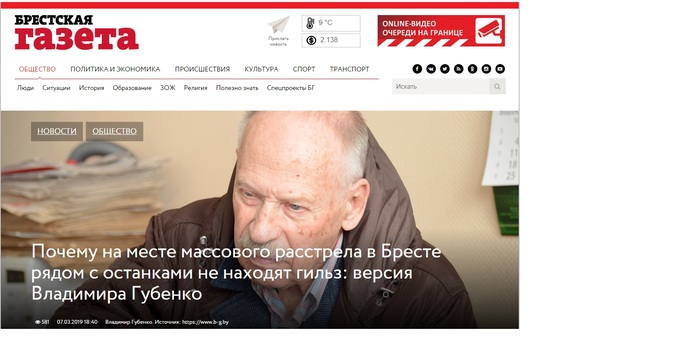(Это все НЕ МОЁ, а с сайта газеты Вечерний Брест. Читайте там.
(Автор - ВАСИЛИЙ САРЫЧЕВ http://www.vb.by/projects/oldbrest/)
Вещь необыкновенная! Статьи постепенно собираются, и выходят отдельными книгами.(Очень много неизвестных и трагических историй. Захватывает.)
Часть 1: https://pikabu.ru/story/istoriya_bresta_148ne_bogi_gorshki_o...
Часть 2: https://pikabu.ru/story/istoriya_bresta_149ne_bogi_gorshki_o...
Часть 3: https://pikabu.ru/story/istoriya_bresta_150ne_bogi_gorshki_o...
Часть 4: https://pikabu.ru/story/istoriya_bresta_151ne_bogi_gorshki_o...
Одно дело поддерживать власть в крепком советском тылу и совсем другое – выбрать линию поведения на оккупированной территории. На новоиспеченных украинских землях священнослужителям, особенно сельским батюшкам, приходилось действовать по принципу «нашим и вашим». Балансировать надо было как минимум между тремя силами: немецкими властями, советскими и украинскими партизанами.
Прогитлеровские мотивы в проповедях были контролируемым условием функционирования каждого храма. В то же время мало кто из священников мог игнорировать приходившие из леса просьбы и пожелания, за что было легко поплатиться головой.
Нельзя сбросить со счетов и милосердие – один из китов, на которых зиждется православие. Того же отца Митрофана никто не заставлял помогать обездоленным командирским семьям или изобличать с амвона клеветников, по доносам которых арестовывались горожане.
Потом, после войны, почти любого священника можно было в равной степени привлечь за антисоветчину и поощрить за патриотичную связь с партизанами. Орденов батюшкам не давали (за исключением высших иерархов, которые получили свои правительственные награды при первом послевоенном награждении), а сажали запросто. Брестскому священнику Т., не уехавшему, как другие, на Запад, инкриминировали звучавшие в проповедях пронемецкие призывы. Привлеченный в качестве свидетеля сторож тришинской кладбищенской церкви, при ней и живший, Иван Кузьмицкий, земля ему пухом, на вопросы об антисоветских проповедях отвечал, что ничего об этом не знает, т. к. проповедей не слышал: по старости глуховат. Но нашлись такие, кто охотно припомнил подробности ценой в 25 лет ИТЛ.
После наступившего в войне перелома многие с тревогой задумались о вариативности завтрашнего дня, в котором может оказаться нелишней партизанская справка. С 1943 года все больше мужчин стали связываться с лесом. Контакты священнослужителей с партизанами из явления неординарного перешли в разряд обыденного.
Партизаны стали к «попам» более лояльны, чем это было в 1941-1942-м, когда лесные отряды состояли большей частью из окруженцев. Меньше стало историй, подобных произошедшей в Каменецком районе, где в одной из деревень пьяные мерзавцы тащили в лес на продолжение банкета молодую жену дьяка и, не достигнувши своего, прошили пулями вместе со вступившимся за нее дедом.
Теперь пошли истории другие. Из отчета Пинского обкома партии в ЦК ВКП(б) от 4 июня 1943 года: «...попы дер. Дятловичи, Бостынь, Лунинец, Лунин, Вулька Лунинецкого района в первые дни войны оказывали свои услуги немцам. Проведя разъяснительную работу с этим духовенством, мы доказали им, что, помогая немцам, они изменяют своему народу... После этого они начали работать против немцев – в пользу партизан… Попам было поручено провести молебен в населенном пункте, где размещались немецкие гарнизоны, с тем чтобы эти молебны были направлены на разоблачение немецкой лжи о партизанах... Это поручение попами было выполнено. В одно из воскресений попы молились за партизан, называя их борцами за свою родину, за сохранение своего народа».
В характеристике, выданной 15 ноября 1944 года командиром партизанского отряда им. Кирова благочинному Пинского округа, говорилось: «Священник Раина Кузьма Петрович... оказывал всенародную помощь партизанам... Доставлял в партизанские отряды разведданные, призывал население к оказанию содействия народным мстителям. Проявил себя как подлинный патриот нашей великой Родины».
Летом 1943-го протоиерей Кузьма Раина передал по пачке листовок, выпущенных Московской Патриархией, митрополиту Пинскому Александру (Иноземцеву) и архиепископу Брестскому Иоанну (Лавриненко). Деятельность митрополита Александра, одного из основателей Украинской автокефальной Церкви, вызывала особую озабоченность Патриархии. И в 1943 году в действовавший на Пинщине партизанский отряд им. Лазо самолетом доставили группу особого назначения, имевшую задание передать митрополиту личное письмо патриарха Сергия и договориться о вылете в Москву для встречи с главой Русской церкви. Посланцы дважды встречались с митрополитом. От полета в Москву и обращения к верующим по Всесоюзному радио он, по словам участника встречи Н.И. Чалея, отказался, ссылаясь на «последствия, которые могут возникнуть в судьбах Церкви, ближайших сотрудников и его тяжело больной матери», но отношения с Патриархией были урегулированы. По свидетельству командира Пинского партизанского соединения Василия Коржа, с осени 1943-го у него была установлена связь с митрополитом Александром, которому через подпольщиков Пинска давались различные советы и указания.
Кстати, насчет матери митрополит не лукавил: в газете «Наше слово» за 14 мая 1943 года от его имени помещено соболезнование по поводу смерти Анастасии Николаевны Иноземцевой в Пинске на 92-м году жизни.
После того как двинулся фронт, большая часть украинского духовенства эвакуировалась в западные области рейхскомиссариата. Межцерковная борьба вспыхнула с новой силой. В конце 1942 года автономная Украинская церковь вновь открыла духовную семинарию в Кременце, закрытую в 1939-м.
Отношения немецких властей с украинскими националистами ухудшились, и автокефальная церковь стала терять свое привилегированное положение у рейхскомиссара Коха и службы СД. В отличие от Белоруссии, где наблюдалось стремление подогреть не слишком выраженные национальные чувства, на Украине оккупантов беспокоило как раз обратное.
Большинство верующего населения тяготело к восстановлению традиционного православия. Проявления модернизма у новых священников (в одежде, стрижке, языке церковнослужения) настораживало паству. По мнению ряда американских исследователей, в автономной церкви было вдвое больше прихожан, чем в автокефальной.
И бандеровцы пошли на крайность, развернув кампанию террора против прорусски настроенных священников. 7 мая 1943 года на Волыни украинскими националистами был убит глава Украинской автономной церкви митрополит Алексий (Громадский), а в августе захвачен и повешен в лесу епископ Владимиро-Волынский Мануил (Тарновский), перешедший из автокефальной церкви в автономную. Историк Ф. Хейер приводит имена 27 священников, убитых бандеровцами только на Волыни в течение лета 1943-го, причем в ряде случаев убивали и членов семей. Записка с угрозами, подброшенная под дверь брестскому священнику Митрофану Зноско, имеет те же корни.
Следствием террора был рост числа автокефальных приходов, особенно на Волыни, где, по данным профессора М. Шкаровского, в течение 1943 года более 600 приходов перешло в автокефальную церковь. В юрисдикции «автономистов» оставались в основном приходы в городах, не так подверженных бандеровскому террору.
Террор украинских националистов не прекратился и после немецкого отступления. 23 сентября 1944 года епископ Волынский Николай (Чуфаровский) докладывал Патриаршему Местоблюстителю, что за последнее время бандеровцы убили на Волыни 5 священников автономной церкви «за признание Московской Патриархии».
Но музыку заказывает победитель. В мае 1944 года в Минске прошла Архиерейская конференция Белорусской церкви. Несмотря на то, что иерархи совещались под немецким надзором (и приняли резолюцию о непризнании Сергия Патриархом Московским), они исходили из новых надвигающихся реалий.
Обратимся к исследованию профессора Михаила Шкаровского: «Много внимания 8 собравшихся архиереев уделили вопросу присоединения к Белорусской митрополии двух новых епархий – Пинской (автокефальной Украинской Церкви) и Брестской (автономной Украинской Церкви). Дело в том, что в начале 1944 г., когда остаток Волыни и Полесья еще находился в германских руках, эта территория была передана из рейхскомиссариата “Украина” в генерал-бецирк Белоруссия. Митрополит Александр (Иноземцев) к этому времени уже пересмотрел свое прежнее враждебное отношение к руководству Белорусской Церкви и участвовал в работе конференции, как и архиепископ Брестский Иоанн (Лавриненко). Последний был принят в состав митрополии согласно его просьбе вместе с паствой без всяких осложнений, а формальное присоединение автокефалистов – митрополита Александра и его викария епископа Григория (Коренистова) было обусловлено предварительным предоставлением ими отпускной грамоты от митрополита Варшавского Дионисия. Но фактически они также были приняты – преосв. Александр получил титул Полесского и Пинского, а Григорий – епископа Кобринского».