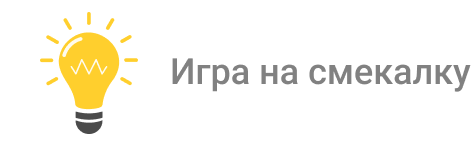История Бреста 35. "Немцы в городе". Проект "В поисках утраченного времени" от 23 октября 2009
(Это все не мое, а с сайта газеты Вечерний Брест.
(ВАСИЛИЙ САРЫЧЕВ http://www.vb.by/projects/oldbrest/)
Вещь необыкновенная! Статьи постепенно собираются, и выходят отдельными книгами.(Очень много неизвестных и трагических историй. Захватывает.)
На улице 9-го Лютэго, 17 (район теперешней автобусной остановки «Станция юннатов» на Пушкинской) в польское время некто В. держал в своем домике «споживчий» (продуктовый) магазин. Об этом степенном седовласом еврее по имени Шмуль люди поговаривали как о «мильёнере»: имел трехэтажные хоромы на престижной улице Домбровского (ныне Советской), которые сдавал поквартирно, а сам с женой и тремя дочерьми жил во вросшем в землю домишке на Киевке. Соседская девочка Люся Хомич ходила к ним по субботам разжечь огонь и получить в награду конфеты. Девочка всякий раз обращала внимание на поразительную чистоту, контрастировавшую с бытом многих еврейских семей.
Младшие дочери Шмуля Хая и Фрида учились в школе, а старшая, хорошо образованная Эта, окончила гимназию «Тарбут». Она была так красива, что люди оборачивались, видя ее идущую на занятия в гимназическом платье с тарчей (шеврон с номером учебного заведения) на рукаве.
К началу оккупации Эте было лет девятнадцать. В нее влюбился немецкий офицер, подразделение которого стояло в Кобрине, и увез девушку к себе. Связаться с иудейкой было для арийца недопустимым, но любовь стирает границы. Тайна немца и оберегаемой им от гетто Эты, больше похожей на польку, была скорее фигурой умолчания, об их совместном проживании знали соседи и некоторые сослуживцы.
Так продолжалось до приезда в военную часть проверяющего из Берлина. Увидев такую красавицу, он тоже положил на нее глаз. Были это уговоры или требование старшего по чину «сдать товар», мы не знаем, но конфликт разрешился выстрелом. Проверяющего отвезли в морг, а возлюбленного судили и отправили в штрафное подразделение под Сталинград. Эту забрали и расстреляли, весь Кобрин про это говорил.
Не противопоставляя свои изыскания традиционным советским текстам, рассматривающим период немецкой оккупации как ежечасную борьбу населения с захватчиками, пытаюсь рассмотреть другую, бытовую сторону жизни. Три года — нешуточный срок, на протяжении которого людям надо было как-то выстраивать быт, где-то работать, что-то есть. Никто из местных не знал, как повернется война, а жизнь текла, взрослые несли на плечах семью, дети росли, молодежь в отведенный природой и Богом срок встречалась, влюблялась, женилась… Кто-то по потребности натуры читал газеты, ходил иногда в кино и театр, другие сосредоточились исключительно на выживании, носили на рынок овощи, одежду, всякие вещицы, чем-то промышляли — словом, народ приноравливался к новым порядкам.
Реальность такова, что во многих ждущих своего часа рассказах брестчан-очевидцев немцы периода оккупации предстают разными, как все люди на земле. Одни не задумываясь жали на гашетку или брезгливо смотрели на людей под оккупацией как на понимающую лишь плеть низшую расу, другие угощали хозяйских детей, где стояли постоем…
Забавный случай, который тем не менее запросто мог закончиться трагедией, произошел с моим кобринским дедом, в доме которого квартировали два немца — Ганц и Франц, один деревенский, другой городской, с чувством превосходства над первым.
Дед имел связь с лесом через двоюродного племянника Шурку из деревни Магдалин, возившего партизанам лекарства и медикаменты. По его просьбе дед собирал по знакомым старые простыни, а партизаны передавали тонкое, в палец толщиной, сало.
Однажды пришли посыльные из леса, два молодых парня, им налили борща, и, как назло, в это время заявились Ганц и Франц (бабушка готовила обеды из их продуктов, часто это были макароны, обжаренные в шкварках). После короткой заминки партизан представили как родственников и посадили немцев за тот же стол. Так стороны вместе и пообедали. В доме понимали, что квартиранты не дураки, но немцы уже не один месяц были на постое и, видно, решили не чинить хозяевам беды.
Ганц и Франц на многое смотрели сквозь пальцы. Моя мама, в то время девятилетняя девочка, с детства имела страсть к счету. Считала все: деревья на улице, штакеты в заборе, вензеля на обоях… Однажды в Кобрине случилась беда, на партизанской мине подорвалась машина, везшая к линии электропередачи ремонтную бригаду из местных жителей. Восемь человек погибло, немцы хоронили их с почестями.
Мама и здесь осталась верна себе: стояла у забора с полевой сумкой через плечо и записывала, сколько гробов, сколько машин, сколько немцев… Придя домой, стала делиться впечатлениями и, сбившись в рассказе, сверилась с блокнотом. Родители переглянулись: «Зина, а если бы тебя спросили, для чего записываешь?» — «Ну, папе рассказать…»
После Ганца и Франца стояли мадьяры, ухаживавшие в немецкой части за лошадьми. Остановились не в доме, а в клуне и запомнились своей воровитостью — могли упереть кур, другую живность. Немцы же, если им что-то было нужно, брали открыто, а за случаи воровства строго карали — подвешивали на час-другой за палку, продетую сзади между рук. Когда наказанный терял сознание, его опускали на землю, отливали водой — и снова подвешивали, точно выдерживая назначенное время.
Однажды перед отступлением, когда уже двинулся фронт, в хату зашел эсэсовец. Эту черную форму знали хорошо и очень испугались. А тут вернулся хорошо выпивший дед и, увидев «гостя», громко выматерился, а вдобавок объявил бабушке, что надо идти в партизаны. Все так и обмерли. Но немец и бровью не повел, сделал вид, что не слышал, так и ушел. А в семье потом сутки тряслись, думали, расстреляют, бабушка очень ругала деда, что он «погубил всю семью».
Не начнись война, патриотично настроенного, но простодушного в высказываниях деда наверняка вывезли бы или упекли в советскую тюрьму: 22 июня 1941 года на вокзале, где погрузилось, но не успело вывезти бумаги НКВД, дед нашел донос на себя.
После освобождения города в 1944-м старший сын Лёня, мой дядя, выросший за время оккупации из мальчика в 17-летнего юношу, попросился в военкомате на фронт, чтоб не отстать от ребят с их улицы годом старше, которым пришли повестки. Провожая его, дед возьми и брякни про «грудь в крестах или голова в кустах». Через три месяца Лёня погиб под Кёнигсбергом.
Итак, слово сказано, заявка сделана — попытаться взглянуть на солдат вермахта, отправленных на войну убивать, как на вчерашних парней, деревенских и городских, мастеровых и интеллектуалов, каждого из которых — в Баварии ли, Тюрингии, Шуссентали — ждали мама, отец, жена, девушка... Об этом нельзя было думать бойцам на переднем крае, где вопрос стоял односложно: или ты, или тебя, но сегодня, по прошествии почти семидесяти лет, надо включать не принимавшиеся прежде во внимание аспекты. Рассматривая оккупационную жизнь Бреста, я намереваюсь не подчеркивать нарочито, а просто держать в уме, что и человек в форме цвета фельдграу, как его не пропитывали нацистской пропагандой, все же имел в сердце одинаковый с русским, англичанином, французом уголок для обычных человеческих чувств, он мечтал вернуться домой, он имел прошлое.
Оставляю за скобками участников айнзатц-подразделений и прочих карательных зондеркоманд, в которые отбирались люди со специфической психикой, не отягощенные мыслями и мало склонные к рефлексии. Меня больше занимают «полевики», пушечное мясо, плоть от плоти нации, купившейся на экономические и политические успехи второй половины 30-х и поддавшейся на лозунги о великой Германии. В условиях закона о воинской повинности и начавшейся войны все мужское население хочешь-не хочешь стало солдатами, но правда и в том, что поначалу большинство шли в армию с энтузиазмом, который усиливался в ходе скоротечных европейских кампаний и в первые месяцы восточного похода. А потом, когда начались трудности, поражения и солдаты увидели ужасы настоящей войны, они стали интуитивно (сознанием оперировала пропаганда) угадывать ее бессмысленность и преступность, но деться было некуда.
«Для большинства немцев война не являлась выражением нацистской мечты о расширении жизненного пространства на Востоке, — вспоминает Вильгельм Липпих, начавший войну двадцатилетним ефрейтором в 1940 году на границе с Францией, а закончивший в 1945-м, будучи единственным выжившим в его роте. — Подобно другим немецким солдатам, я сражался за свою родину, движимый патриотическими побуждениями и верой в то, что советский коммунизм представляет собой угрозу Европе и всей западной цивилизации. Хотя нацистская пропаганда представляла славянское население «унтерменшами», или «недочеловеками», то есть неполноценными в физическом и умственном развитии, мои товарищи не разделяли таких расистских взглядов. Для нас славяне не были неполноценной расой, мы считали их просто неграмотными людьми, жителями отсталой, нецивилизованной страны».
И из его же воспоминаний об апреле 1945 года: «На закате […] мы добрались до города (Пиллау в Восточной Пруссии, ныне Балтийск. — В.С.), где нашим взорам открылось печальное зрелище. Вдоль дороги на ветвях деревьев покачивались тела примерно десятка повешенных немецких солдат… Это дело рук эсэсовцев. Для них было безразлично, являлись эти несчастные дезертирами или просто отбились от своих частей. Большинство немецких солдат, с которыми я сражался бок о бок, […] презирали регулярные части СС, в которых видели лишь кровожадную, бесчеловечную политическую милицию нацистской партии…»
Сколько же всякого пролегло между двумя этими выводами за четыре года страшной войны…
ВАСИЛИЙ САРЫЧЕВ