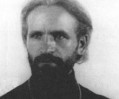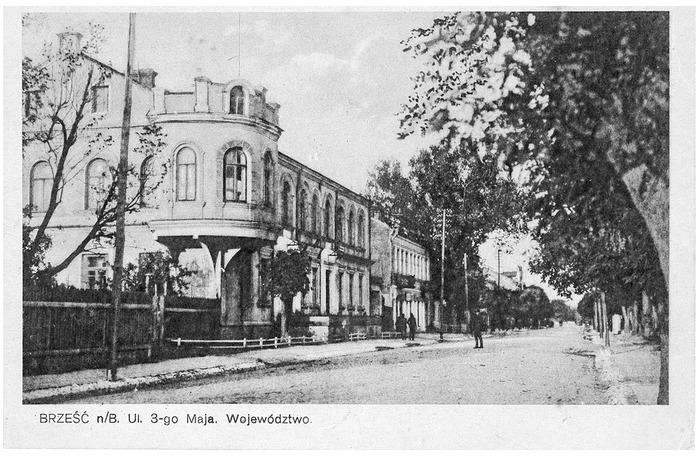История Бреста 150. Не боги горшки обжигают. Проект "В поисках утраченного времени" от 22 июня 2012. Часть 3.
(Это все НЕ МОЁ, а с сайта газеты Вечерний Брест. Читайте там.
(Автор - ВАСИЛИЙ САРЫЧЕВ http://www.vb.by/projects/oldbrest/)
Вещь необыкновенная! Статьи постепенно собираются, и выходят отдельными книгами.(Очень много неизвестных и трагических историй. Захватывает.)
Часть 1: https://pikabu.ru/story/istoriya_bresta_148ne_bogi_gorshki_o...
Часть 2: https://pikabu.ru/story/istoriya_bresta_149ne_bogi_gorshki_o...
Написанные за океаном воспоминания бывшего настоятеля Свято-Николаевской церкви Бреста отца Митрофана Зноско, закончившего земной путь в статусе епископа Бостонского, не обошли вниманием события времен немецкой оккупации, вместившие борьбу духовных иерархов и непростой выбор, павший на плечи простых священников. «Это было страшное время, – рассказывает о. Митрофан, – когда за отказ перейти на украинский язык в богослужении украинские партизаны зверски убивали добрых пастырей. Только Божией милостью не попал я ни в тюрьму, ни в концлагерь. Во множестве поступавшие на меня в гестапо доносы обезвреживали Ивар Ляссен, б. офицер Российской императорской армии, датчанин, полковник В. Ермолов, Артур Адольфович Люкхауз и солдат-пастор, мой воистину брат во Христе Вальтер Цельм».
Священник много чего вспоминает про те годы. Пишет про подброшенную под дверь прихожей записку с угрозой: «Якщо не підеш разом з нами, співай собі панахиду ще живим», про гибель своего брата от случившегося в гостях странного отравления.
Приводит текст письма, полученного своим отцом священником Константином Зноско примерно за год до смерти (умер после принятия ошибочно выданной в аптеке микстуры) от автокефального епископа Платона (Артемюка), датированного 11 августа 1942 года, с ярой критикой деятельности сына: «В теперішній час, коли відроджується дорогою автокефалії наша рідна церква, коли важіться доля України, мене дуже здивувало: о. Митрофан встав для боротьби з відродженецькім автокефальним рухом на стороні так званих «автономістів», що гуртуються коло архієпископа Олексiя в Кременці і намагаються в своїй праці, не розбираючись в засобах, боротися з самою ідеєю автокефальності, забуваючи, де вони живуть і чий хліб їдять...»
Замечу, последнее свидетельство – взгляд сторонника автокефалии – по-своему примечательно: у каждой из сторон были свои резоны, своя правда.
Но вернемся к запискам о. Митрофана (запечатлен на брестском снимке 1943 года).
«В один из будних дней второй недели войны совершаю в Варваринском приделе Литургию... По окончании поднимаюсь в ризницу, снимаю облачение. Подходит диакон:
– Отец настоятель, двое мужчин из Варшавы хотят с вами говорить.
Выхожу на клирос. Знакомимся. Один из них, г. Островский, представился как «нареченный» президент Белорусской Республики, второй – его секретарь. Разговор идет на русском языке.
– Скажите, батюшка, к какой национальности причисляет себя население Бреста и его окрестностей, на каком языке говорят здесь?
– В городе, – отвечаю я, – население русское, родным языком считают язык русский, а что касается крестьян – деревня говорит на наречии, близком к языку малороссийскому.
– Нет! – возражает будущий президент. – Здесь Белорусь (так в оригинале. – В.С.) и население белорусское...
На его нет и я отвечаю нет. Местное население никак не причисляет себя к белорусам. Больше того, протестует против причисления Брестской области к Белоруссии. Когда в 1939 году советская власть открыла в Бресте белорусские школы, население протестовало, были посланы протесты в Минск и в Москву.
– …У нас протестовать не будут, а если кто вздумает протестовать, того к стенке и пулю в лоб...
Еще лежу в постели, набираясь сил для встречи новых переживаний и впечатлений. Подходит папа: приехал из Варшавы архимандрит Филофей (Нарко) и хочет с тобой повидаться. Я уже знал, что архим. Филофей мечтает о белом клобуке митрополита всея Белоруссии, слух о том, что готовит он козни против митрополита Пантелеймона (Рожновского).
– Узнайте, папа, в каком он сане, если архимандрит – я сейчас выйду, если же епископ – скажите, что принять его не могу...
Побывал у меня посланец Пинской духовной консистории о. Евгений Н-ов с предложением, исходящим якобы от архиепископа Александра, вернуться под его омофор с тем, что владыка сразу возлагает на меня митру и вводит в состав Духовной консистории в качестве ее члена.
Хорошо зная рукополагавшего меня владыку, я, во-первых, никак не мог поверить, что подобное предложение исходит от любимого мною пастыря, во-вторых, не мог принять навязанную ему окружением «австро-венгерскую жовто-блакитщину» и, в-третьих, каноническое подчинение пастыря не перчатка, которую можно менять по вкусу в угоду кому-либо.
После этого позорного для Полесской консистории искушения меня появился вскоре в моем доме второй из Пинска посланец, о. Кирилл Гончук, с указом, освобождающим меня от должности настоятеля Братского Николаевского прихода с предписанием передать все дела о. Гончуку.
Пришел он ко мне в ранние часы субботы. В столовой сидят староста моего храма Н.В. Качанко, стойкий и верный слуга Церкви, и моя матушка. Я с гостем прошел в гостиную.
Приняв из рук о. Гончука указ консистории, я вслух прочел его и сказал батюшке о. Кириллу:
– Приходи, батя, сегодня ко всенощной, а завтра к Литургии. После Литургии я оглашу указ и представлю вас пастве, а затем назначим время передачи вам прихода.
Староста, услыхав, с какой целью прибыл ко мне о. Кирилл, помчался на малый рынок, через который должен был проходить посланец из Пинска, оповестил о слышанном народ, и, когда на территории рынка появился о. Кирилл, женщины бросились на него, как рассвирепевшие псы, порвали на нем рясу, сорвали крест, так что бедный батя не появился в Николаевском храме ни ко всенощной, ни к Литургии.
Через некоторое время прибыл ко мне с таким же указом о. Павел Златковский, мой коллега по курсу на богословском факультете. Отец Павел показал себя воспитанным и рассудительным собратом...
Уютно посидели мы с о. Павлом за «русским чаем», побеседовали, зашли в храм, и о. П. Златковский отбыл в Пинск с докладом о своей неудачной командировке.
Не успокоилась Пинская консистория, прислала вскоре с указом третьего кандидата на живое место. Это был Н. До-вский. Ему, женатому на девушке из почитаемой в Бресте семьи и окончившей русскую гимназию, я прямо сказал:
– Обратись со своим пинским указом к моему каноническому правящему епископу Венедикту, я безоговорочно подчинюсь его воле.
Посетил батя несколько домов моих прихожан, послужил у украинствующего о. С.Ж. в Свято-Симеоновском соборе и отбыл в Пинск.
В декабре 1941 года мы снова приветствовали в нашем Братском храме правящего епископа Брестского Венедикта. Преосвященный владыка приезжал в свой кафедральный Брест из Жировичской обители каждые три месяца для проверки деятельности Епархиального управления и новых распоряжений.
За свое короткое управление Брестской епархией владыка Венедикт рукоположил в Николаевском храме четырех священников и одного диакона. Его пребывание в Бресте в декабре 1941 года было омрачено грубым против него выпадом со стороны украинских националистов.
Явилась к нему украинская делегация в составе инж. Гн-вого, Хруцкого, Т-ка и П-ка... Аудиенция закончилась конфузом. Поначалу мирно беседовавшие гг. делегаты неожиданно повышают тон, спрашивают преосвященного: а какой вы национальности, где вы получили архиерейское посвящение, к которой принадлежите Церкви и проч. Выслушав ответы владыки, господа делегаты в резкой грубой форме заявили: у нас имеются свои архиереи-украинцы, ваше место на Московщине, владыка, – «гэть до Москвы!».
Преосвященный растерялся, он никак не ожидал подобной грубости со стороны, казалось бы, интеллигентных и верующих людей. Надо выручать. Поднялся я со своего кресла и, молча приняв у владыки благословение, полным голосом обратился к гг. делегатам:
– Встать! Вон отсюда!
…А так как они все еще не собирались уйти, схватил я главу делегации за шиворот и выставил за двери со словами:
– Научитесь хорошему тону и тогда приходите к святителю.
С этого дня начали травить меня, в чем особенно усердствовала «Украинская церковная рада», которую формально возглавлял мой бывший законоучитель прот. С. Ж-й.
В газете «Украинский голос» от 26 февраля 1942 года появилась заметка с выражением негодования, что служу я на церковнославянском языке и подчиняюсь «москалю» епископу Венедикту, а после хиротоний в Пинске в «украинские епископы» Г. Коренистова, Н. Абрамовича и И. Губы появилась в газете «Новое слово» провокационная статья «Московськi партизани в священничих рясах», направленная против православного епископата и духовенства, отвергающего использование Церкви в политике русофобов-галичан...
Покидая Брест (вероятно, в связи с переводом в Гродно. – В.С.), владыка Венедикт назвал двух кандидатов на Брестскую кафедру, предоставив членам Епархиального управления право выбора одного из них. Кандидатами были архиепископ Антоний, бывший Гродненский, в последние годы Камень-Каширский, и архимандрит Иоанн (Лавриненко), бывший член Гродненской духовной консистории.
Наш выбор пал на архимандрита Иоанна. В мае месяце 1942 года он прибыл в Брест как епископ Брестский и Ковельский и, по представлению владыки Венедикта, «за заслуги на посту председателя Епархиального управления Брестской епархии» возложил на меня палицу.
…К прибытию в Брест нового правящего епископа удалось получить мне расположенный визави Симеоновского собора двухэтажный дом, в котором разместились владыка Иоанн и канцелярия Церковного управления, переименованная новым архипастырем в Духовную консисторию...
Преосвященный владыка Иоанн избегал встреч с представителями власти. Всякий раз, когда его вызывали, он уезжал из Бреста или в Кобрин, или в Ковель, возлагая на меня встречи и разговоры с властями.
В 1943 году поступила в Консисторию из канцелярии Генерального комиссара Волыни и Подолья просьба, чтобы епархиальный епископ обратился к своей пастве с призывом оказать доверие и поддержку немецкой армии, «несущей свободу русскому народу». Владыка и слушать об этом не хотел. Вызывают его еще раз для объяснений.
Преосвященный уехал в Ковель, на вызов иду я и, выручая владыку, сам составляю скромное, на 2/3 страницы, обращение правящего епископа к боголюбивой пастве, размножаю и рассылаю по приходам для оглашения в храмах после Литургии.
Выслушав после возвращения в Брест мой доклад о посещении канцелярии Генерального комиссара, внимательно прочитав «свое» обращение к пастве, владыка, подчеркнув отсутствие в нем военщины, политики и выражения верноподданнических чувств, поблагодарил меня и сказал:
– Не возражаю и против моего имени под этим текстом.
В 1942 и 1943 гг. отпевал я в сослужении отцов-настоятелей вверенного мне благочиния о. Филиппа Туревича в с. Черни и о. Иоанна Житинца в с. Вистичи.
Против отпевания мною сих почивших отцов заявила протест «Украинська церковна рада»... Протест провалился, так как семьи почивших подтвердили в письменной форме желание, чтобы отпевание совершил их благочинный, т. е. я.
…Недолго пришлось ожидать очередную атаку со стороны «Украинськой церковной рады». Через недели две по возвращении из Вистич получил повестку – явиться лично в кабинет Генерального комиссара Волыни и Подолья...
– Вы должны убраться вон из пределов Бреста!.. – Схватив лежащий перед ним лист бумаги – как оказалось, последний поступивший на меня донос, – он сорвался с места и размахивая им перед лицом заорал: «Вот за что! Вы возбуждаете против власти народ... В течение часа вы должны покинуть пределы Бреста!»
Когда комиссар размахивал перед моим лицом доносом, я увидел на нем штамп «Украинськой церковной рады» и четыре подписи...
– Господин Генеральный комиссар, я в Бресте родился, здесь вырос, здесь окончил гимназию и вот уже седьмой год священствую. Меня хорошо знает народ во всей округе, верьте, на мой клич предстанет перед вами больше тысячи человек. Против меня могут выступить из всего округа не больше 10-15 политиканов...
Я назвал всех четырех, подписавших донос, перемешивая их фамилии с тремя-четырьмя именами, которых на листе не было.
Сел комиссар в свое кресло, заглянул в донос и сказал:
– Завтра ожидаю вас у себя с первым, подписавшим против вас эту бумагу...»
Продолжение следует.