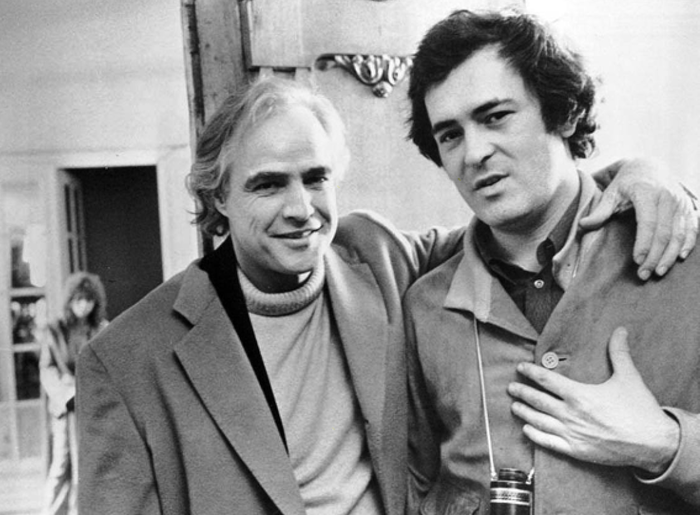Бертолуччи и я
Он был первым из итальянских корифеев, чья карьера началась и прошла на моих глазах.
Не кем-то, кто уже был великим до меня, а тем, кто стал при мне.
Он в 1967 году вместе с Дарио Ардженто и Серджо Леоне сочинял сценарий фильма «Однажды на Диком Западе» – фильма, который я увижу только через 20 лет, и полюблю неистово и навсегда.
Он в 1970-м снял картину «Конформист», на которую я, первокурсница, летом 1971-го проникла в кинотеатр «Ленинград», где шли показы фильмов Московского фестиваля, употребив всю свою еще детскую хитрость: я с независимым видом прошла впереди взрослой пары с билетами, так, словно я с ними, и у них потом требовали третий билет – а я уже спряталась, и сидела, не дыша, в зале, и смотрела, как исповедуется передо мной Трентиньян, и как его то корежит от собственной исповеди, а то вдруг он внезапно преисполняется наглого самодовольства от этого «раздевания». И я понимала, каково могущество художника, умеющего рассказ о чьем-то ничтожестве превратить в оглушительной мощи и величия зрелище про то, как велик мир и как мал и ничтожен в этом мире человек.
Я тогда впервые поняла, как интеллигенты могли стать фашистами: Бертолуччи безжалостно поведал о блеске и обаянии фашизма, о его подавляющей мощи, и еще об его умении пролезть внутрь человека через крохотные лазейки, оставленные самим человеком…
На «Последнее танго в Париже» в 1973-м в Ленинградский Дом Кино мы, правдами-неправдами, протырились уже вместе с Павловым.
Мы были третьекурсники, молодые влюбленные супруги, считающие себя взрослыми, и как завороженные смотрели фильм про людей, создавших для себя персональный то ли рай, то ли ад на двоих. И они были наги и безымянны, они были жестоки и нежны друг к другу, они лгали и насиловали, не считаясь с криком и плачем партнера, а потом вжимались телом в тело, согревая друг друга… Это было мощно и страшно настолько, насколько вообще может быть мощной и страшной война – неважно, ведут ее страны с пушками и армиями, или просто голые мужчина и женщина…
И это было прекрасно, как только может быть прекрасно соитие, в котором неважно, кто ты есть, чем ты занимаешься и как тебя зовут, важно только то, что вы – это «он» и «она». И в этой их анонимности, как выяснилось, и была главная радость этого войнообразного соития, этого битвообразного секса.
А потом он захотел переделать войну в мир, захотел вернуть себе своё «я» - и это его погубило.
Мы были оглушены, и, не скрою, настроены экспериментировать… А в промежутках между экспериментами мы снова и снова вспоминали, как он сидел в углу, голый, в позе эмбриона, и как она царапала и грызла пол от унижения…
«Двадцатый век» в начале января 1977-го мы, юные кинематографисты, смотрели в Доме кино уже на законных основаниях: у нас были приглашения. Я была глубоко беременна – на сносях. Мы с умным видом и ироническими усмешками разговаривали о том, как был у нас в прокате порезан «Конформист», и, конечно, о том, как порежут еще не виденный нами «Двадцатый век» (мы уже знали, что он приобретен для советского проката: итальянские кинематографисты были фаворитами Госкино и их фильмы – даже самые неоднозначные – Госкино исправно закупало, но, разумеется, резало нещадно).
Мощная сага, полная крови и пота, гнева и ярости, варварства, обманутых надежд и экстремальных порывов, затянула и вела за собой. Мы сидели в совершенном потрясении от похорон Джузеппе Верди, от мрачного величия народного горя, от скопища на экране молодых титанов – Роберт де Ниро и Доналд Сазерлэнд, Жерар Депардье и Доминик Санда были тогда для нас молодыми актерами, молодыми львами, а Бёрт Ланкастер рядом с ними – гуру и небожитель.
И тут Сазерлэнд изнасиловал и убил ребенка.
Мальчика, в ботиночках и гольфиках, раскрутив его за ноги и ударив об угол… Я со стоном схватилась за живот, и ринулась было из зала – но где там выйти, – когда сидят в проходах и стоят по стенкам?
Весь остаток фильма я прорыдала – мне уже было ни до чего… Павлов, насмерть перепуганный, держал меня за руку, боясь, что я сейчас начну рожать. Но я не начала – я уже тогда была толстокожая.
И только пару лет спустя, когда в институте Театра, Музыки и Кино заказали из Госфильмофонда эту картину в хорошем контратипе, мы смогли посмотреть ее уже нормально и в нормальном состоянии, и вновь были захвачены этим мрачным эпосом, этой мощной древнеримской сагой, этим, идущим три с лишним часа революционным гимном, в котором выживает и побеждает новое, сильнейшее, но гибнущего старого было смертельно, до разрыва аорты, жаль…
«Последний император» оставил нас обоих равнодушными. А Бертолуччи был как бы уже «свой», не небожитель, подобно Феллини и Висконти, а наш современник, «простой великий режиссер», и про него хватало и духу, и смелости говорить и писать: «усталость мастера»…
А 3 года спустя, когда я на Берлинском фестивале увидела «Маленького Будду» – у меня случился разрыв шаблона. Мои глаза видели старомодную, традиционную, скучноватую «бабушачью» картину, а в душе вставал образ невероятной ценности и цельности, и то, как великое предначертание меняло судьбу обычного ребенка, заставляло задумываться о том, а что это вообще такое – великое предначертание, которым я так грезила в детстве и юности, и настолько ли это хорошо для человека – великое предначертание?
«Ускользающая красота» застала меня в миг ускользания моей молодости… Я ощущала это тогда невероятно остро – я превращалась из той, кого всё еще окликают на улице «девушка», в кого-то иного, и не знала, что с этим ощущением делать.
Фильм в моей жизни случился вовремя. Еще пару лет назад я бы скривилась и сказала, что эта вся живопись и эти все перламутры – для старикашек, что кино – неразбери-пойми про что. И что у Бертолуччи остыла кровь.
Но сейчас я таяла в дымке вместе с Тосканой, смотрела с нежностью и любовью – как смотрел старый художник с лицом некогда непобедимого Жана Марэ, побежденного возрастом. Я уже не могла самоидентифицироваться с расплывчатой юной Лив Тайлер, состоявшей тогда из одних огромных вишневых губ, но я всё еще могла её понять – я совсем недавно была такой, как она…
И все эти нечаянности, все эти не слишком острые вожделения не слишком брутальных мужчин, вся эта затаённая ускользающая печаль неизбежных расставаний всего и вся, оставили во мне долгий тёплый след…
Но печаль была еще и в том, что я больше уже не узнавала в этих фильмах своего мятежного Бернардо Бертолуччи, своего жестокого и безоглядного Бернардо Бертолуччи.
Мне его подменили.
Это был не он, кто-то другой. И мне моего Бернардо Бертолуччи ужасно не хватало, словно меня бросили, словно мне изменили.
Я уже понимала, что «Мечтатели» не станут возвращением былого. Так и вышло.
Это был фильм нежный, одновременно и порочный, и чистый, тонкий и мудрый… Мудрый и терпеливый, как любящий отец.
А я не чувствовала себя годящейся ему в дочери, я хотела в нем по-прежнему видеть мужчину, воина. Я не хотела шалаша в квартире, а хотела его на поле брани и ристалищ. Я хотела прежней звонкой поступи Командора. Но я была бессильна…
...Когда родители на цыпочках вышли из комнаты, в которой застали трио своих голых спящих детей, я снова испытала когнитивный диссонанс: мне ужасно были милы эти родители, но среди них третьим – добрым и мудрым – был Бертолуччи. Они словно похитили его у меня и оставили себе…
Я только сейчас, когда его не стало, ощутила, что он, в сущности, был близким мне человеком, которого я обожала и боялась, на которого сердилась и обижалась, которого ревновала, и которого со мной больше нет.
Я вчера начала писать про него текст – совсем не этот, совсем другой, практически, некролог.
Начала и сколько-то уже написала.
Компьютер моргнул, и текст исчез.
Маэстро, я думаю, намекнул, чтоб я просто помолчала. Пока во мне не созреет то, что я в самом деле должна была написать.
И оно созрело.
Ирина Павлова
27.11.2018