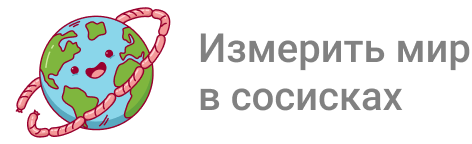27.01.1945 Освенцим пал
Все помнят про освобождение блокады Ленинграда, но почему-то мало людей помнят, что ровно через год было покончено с самым страшным символом фашизма - с концентрационным лагерем Освенцим (Аушвиц). Сколько людей сгинуло в его бараках, газовых камерах и крематориях... А замечательная польская писательница Кристина Живульская осталась жива. Будучи в заключении, она написала много стихов, которые потом включила в свою книгу воспоминаний. Мне подумалось, что кому-то будет интересно. (стихи в переводе, поэтому могут показаться немного корявыми, но смысл сохранился, и эти строки не могут не тронуть)
Над Освенцимом солнце встало,
день загорелся ясный.
Стоим в шеренге: старый, малый,
а в небе звезды гаснут…
Проверка, все должны явиться,
в погоду и в ненастье,
и можно прочитать на лицах
тревогу, боль, несчастье.
Ведь там мой сын в слезах, быть может,
мое лепечет имя…
И мама вспомнила… О боже!
Увижусь ли я с ними?
Быть может, вспоминает милый,
как мы в ту ночь простились…
А если — господи, помилуй! —
они за ним явились?
События идут быстрее,
как на киносеансе.
Вот кто-то едет по аллее
в высоком дилижансе.
Эсэсовки, как на картине,
порхают перед нами.
Стоим столбами соляными,
предметами, номерами.
Потом с презрительной гримасой,
построив нас по росту,
считают люди высшей расы
весь этот скот в полоску.
Вдруг мысль сверкнет и озадачит,
тисками сердце сжато…
Ведь это женщина — так значит,
сестра, невеста чья-то…
Все дальше фильм сенсационный.
Внимание! — команда.
Момент сверхкульминационный:
прибытье коменданта.
Неужто в мире все так мерзко?
Молюсь тому, кто выше…
Но, господи, прости мне дерзкой, —
есть кто-то, кто нас слышит?
А солнце в небе голубином
бросает копны света.
О добрый господи, внемли нам,
теперь недолго это?
На грязной наре рядом
близкий друг умирает,
глядит невидящим взглядом.
(Смерть жертву выбирает.)
Кричит, что жить еще хочет,
что дома ждут ее дети,
но обжигает ей очи
дыханье близкой смерти.
Напрасно, дети, год целый
в тоске домой ее ждете,
не знали вы, как ее тело
лежало три дня в болоте.
У блока с другими телами
на землю брошена прямо,
лежала она часами,
любимая ваша мама…
Тут рядом… недалеко
еще одна умирает;
слеза туманит око,
как свечка догорает.
И смерть чье-то сердце ранит
за проволокой колючей,
и кто-то не раз вспомянет
ее слезой горючей.
То мама ждет — не дождется,
кляня тюремщиков злобных.
Но дочь уже не вернется,
как тысячи ей подобных.
Десятки тел несчастных,
коростами пораженных,
о, как они ужасны —
я точно средь прокаженных.
В бессонные ночи в бараке
с тобой говорю я, мама,
мерцает лампа во мраке,
и сон всегда тот же самый:
как в детстве, ты надо мною
склоняешься низко, низко,
и нежной гладишь рукою,
и долго со мной так близко.
Хочу удержать тебя силой,
ох, мама моя родная, но знаю —
ты только снилась
и снова во тьме одна я.
Я письма пишу тебе, мама,
раз в месяц, официально,
в них текст всегда тот же самый,
известный всем, банальный:
что я жива и здорова,
спасибо за передачи —
но знаешь, что каждое слово
в письмах лживо, что все иначе.
Пришла пора иная,
романтику черти съели,
ты знаешь, о чем мечтаю?
О чистой мечтаю постели.
И так бы еще хотелось
горячей воды из крана…
Ах, мама, все мое тело —
одна огромная рана.
Вши, блохи меня съедают,
и я от бессилья плачу,
а там, на свободе, знают,
что слово «дурхфаль» значит?
И можно идти поляной,
что-нибудь напевая.
Ах, ты не знаешь, мама,
порой тоска какая…
Мечусь я в бессилье и муке,
такое безумье находит,
протягиваю в тьму руки
к жизни… к свободе…
БЖЕЗИНКИ
Лесок небольшой, настоящий,
березы, ели, осинки,
и называется место
очень красиво — Бжезинки.
Хоть нынче здесь все иначе,
чем до войны бывало,
сейчас здесь голо и пусто
и как-то глухо стало.
Ландыши на полянах
цвели здесь в былые годы,
теперь для красы пейзажа
поставлены дымоходы.
Раньше здесь были конюшни,
крестьянские хаты, маки,
теперь стоит мрачная баня,
«хефтлинги» и бараки.
Раньше цвели ромашки,
бродили гуси и куры,
теперь цветут цветочки
гитлеровской культуры.
Раньше земля зеленела
в садах здесь сеяли рутку,
но кто изменил все это?
Славную выкинул шутку!
Радио громко играет
у шефа в его приемной,
звучит мелодия вальса
мотив приятный и томный:
«На свете все проходит,
всему скажи: прощай!
И за декабрьской стужей
опять настанет май».
Можно бы прогуляться,
но всюду видишь преграду —
ты проволокою стиснут,
Как зверь, попавший в засаду.
— Прекрасный вечер, пани,
смотрите, ночь какая,
какое звездное небо,
я молод и вы молодая.
Не надо отодвигаться
и нет в том, поверьте, риска,
просто давно я, пани,
ни с кем не стоял так близко.
Скажите, пани, откуда
приехали сюда вы?
Я прибыл назад два года
транспортом из Варшавы.
Там дом, жена и ребенок,
в саду у нас груши, сливы…
Но это так далёко,
и вряд ли они теперь живы.
Пожалуйста, улыбнитесь
и здесь ведь солнце бывает.
Неужели весна ничего
уж в вашем сердце не вызывает?
Музыка где-то играет,
приятно, тепло, прямо рай…
Постойте, пани, куда вы?..
«Es geht alles vorbei». {14}
— Мой пан, я тоже вижу
звезд голубых охапки,
только что там за пламя?
— Ничего. Там сжигают тряпки.
— Мой пан, в груди моей тоже
чувство весна пробуждает,
только что там за странные трубы?
— Ничего. Там людей сжигают.
— Мой пан, в душе моей радость
рождают весны приметы,
только что за поход там странный?
— Ничего. Там живые скелеты.
— Мой пан, я тоже тоскую,
хоть в сердце печали скрыты,
но что это там у барака?
— Ничего. Чей-то труп забытый.
— Мой пан, вы правы, я знаю,
что я еще молодая,
и от этого мне больнее,
от этого так грустна я.
Я не знала, что встречу всё это,
но нет, я слез не прячу,
нет, нет, мой пан, поверьте,
я в самом деле не плачу.
…А вальс звучит с той же силой,
ароматами манит май,
и поет чей-то голос милый
«Es geht alles vorbei».
С восходом солнца
шумят бараки,
конвой у входа
и с ним собаки.
«На аусен» команда,
здесь любят парады.
Глядят жандармы
из-за ограды…
Сейчас начнется фарс наш обычный:
смотри на тучи, как фантастичны,
как дым красиво вьется над крышей…
«Десятницы! Вверх номер! Выше!»
И — марш рядами через ворота,
старых и новых, всех ждет работа,
худых и толстых, кирка всех любит,
путь знаешь — через блокфюрерштубе.
Трепы, ботинки, ботинки, трепы,
идут к работе, глупой, нелепой,
парадным маршем под лай собаки,
венгры, испанцы, чехи, поляки:
копать окопы,
зарыть окопы.
Вниманье — с нами страны Европы!
Так начинай обычный путь,
иди вперед,
дурнем не будь.
Кто отстает?
В ногу, вперед.
И снова день
один пройдет.
И год пройдет,
сожми кулак
и снова в путь,
равняй свой шаг.
И ничего,
что натощак
и под дождем,
равняй свой шаг.
Эта муштра
в крови у нас.
Эй, не зевай,
получишь в глаз.
Смотри, не плачь,
здесь слезы — блажь,
а продолжай
трагичный марш.
Желанье, мысль
ты должен гнать.
Стройся по пять!
Стройся по пять!
Оркестр дает
привычный такт.
Усвой один
обычный факт,
что звук глухой
всегда в ушах —
то барабан.
Гони свой страх.
Как камень глух
и нем, как сфинкс,
шагай же — links — links,
links — links!
Дахау, Аушвитц, Гузен, Маутхаузен,
все за ворота, маршем «на аусен».
На истребленье уводят в поле,
муку сменяет новое горе.
Лесом, вдоль луга и крематория —
ваша победа, ваша Виктория.
В снег по болотам, в грязи шагая, —
это удача ваша большая.
Вы бы весь мир погрузили в вагоны,
вы бы хотели сжечь миллионы.
Но миллионы — помните это —
с другою мыслью встают с рассветом
и, маршируя здесь под конвоем,
шествие видят в мечтах другое.
И в каждом сердце звуки напева,
мечты грядущего: левой, левой.
Поверь, придет
наш Первый май,
прекрасный май,
свободы май!
За горе свое
миллионы вдов
пойдут в такт песни,
песни без слов.
За боль и кровь
всех этих лет
придется вам
держать ответ.
Да, он пробьет,
возмездья час,
тогда судить
мы будем вас,
за этот марш
бить и терзать,
так же оркестр
будет играть.
Будете выть,
что тяжело,
а мы на зло,
а мы на зло!
За кровь и жертвы
этих лет —
за все дадите
нам ответ!
За столько мук
и столько розг
вам в грудь —
клинок и пули —
в мозг!
За каждый стон
и каждый крик
вам в лоб — свинец,
а в сердце — штык!
За — столько горя, вздохов, слез
палач пусть сдохнет, точно пес!
Чтоб радостно вздохнул весь свет,
сотрем нацизма всякий след!
И лишь тогда, остыв от гнева,
споем свободно: левой, левой.
Танцуй, девчонка,
как приказали,
скрой под улыбкой
свои печали.
Пред господами
танцуй, бедняжка,
хоть в горле слезы,
на сердце тяжко,
хоть эти люди
тому причиной,
что братья, сестры
гибнут невинно.
Танцуй, девчонка,
не открывайся,
пусть эти ножки
кружатся в вальсе,
танцуй под звуки
томного джаза,
забудут расу
в пылу экстаза.
Танцуй, девчонка,
под ритм фокстрота,
ведь это тоже
твоя работа.
Днем упаковка,
это всем ясно,
вечером — танцы,
это негласно.
Танцуй, девчонка,
танцуй им танго,
они пугают
высоким рангом,
они пугают
смертью тотальной
и ободряют
улыбкой сальной.
Танцуй им чардаш,
лакеям мерзким,
печали лечат
вином венгерским.
Расшевели их
пляскою жаркой,
мать твоя тоже
была мадьяркой.
Танцуй им румбу
под джаза звуки,
не вечен сон твой
про кровь и муки.
Кружись, порхая,
птицей крылатой,
мать умертвили,
убили брата.
Танцуй, девчонка,
в пятнах румянца,
они заплатят
за эти танцы.
Пусть войско смерти
всё в землю ляжет.
Тебя простит бог,
а их накажет.
Над Освенцимом солнце встало,
день загорелся ясный.
Стоим в шеренге: старый, малый,
а в небе звезды гаснут…
Проверка, все должны явиться,
в погоду и в ненастье,
и можно прочитать на лицах
тревогу, боль, несчастье.
Ведь там мой сын в слезах, быть может,
мое лепечет имя…
И мама вспомнила… О боже!
Увижусь ли я с ними?
Быть может, вспоминает милый,
как мы в ту ночь простились…
А если — господи, помилуй! —
они за ним явились?
События идут быстрее,
как на киносеансе.
Вот кто-то едет по аллее
в высоком дилижансе.
Эсэсовки, как на картине,
порхают перед нами.
Стоим столбами соляными,
предметами, номерами.
Потом с презрительной гримасой,
построив нас по росту,
считают люди высшей расы
весь этот скот в полоску.
Вдруг мысль сверкнет и озадачит,
тисками сердце сжато…
Ведь это женщина — так значит,
сестра, невеста чья-то…
Все дальше фильм сенсационный.
Внимание! — команда.
Момент сверхкульминационный:
прибытье коменданта.
Неужто в мире все так мерзко?
Молюсь тому, кто выше…
Но, господи, прости мне дерзкой, —
есть кто-то, кто нас слышит?
А солнце в небе голубином
бросает копны света.
О добрый господи, внемли нам,
теперь недолго это?
На грязной наре рядом
близкий друг умирает,
глядит невидящим взглядом.
(Смерть жертву выбирает.)
Кричит, что жить еще хочет,
что дома ждут ее дети,
но обжигает ей очи
дыханье близкой смерти.
Напрасно, дети, год целый
в тоске домой ее ждете,
не знали вы, как ее тело
лежало три дня в болоте.
У блока с другими телами
на землю брошена прямо,
лежала она часами,
любимая ваша мама…
Тут рядом… недалеко
еще одна умирает;
слеза туманит око,
как свечка догорает.
И смерть чье-то сердце ранит
за проволокой колючей,
и кто-то не раз вспомянет
ее слезой горючей.
То мама ждет — не дождется,
кляня тюремщиков злобных.
Но дочь уже не вернется,
как тысячи ей подобных.
Десятки тел несчастных,
коростами пораженных,
о, как они ужасны —
я точно средь прокаженных.
В бессонные ночи в бараке
с тобой говорю я, мама,
мерцает лампа во мраке,
и сон всегда тот же самый:
как в детстве, ты надо мною
склоняешься низко, низко,
и нежной гладишь рукою,
и долго со мной так близко.
Хочу удержать тебя силой,
ох, мама моя родная, но знаю —
ты только снилась
и снова во тьме одна я.
Я письма пишу тебе, мама,
раз в месяц, официально,
в них текст всегда тот же самый,
известный всем, банальный:
что я жива и здорова,
спасибо за передачи —
но знаешь, что каждое слово
в письмах лживо, что все иначе.
Пришла пора иная,
романтику черти съели,
ты знаешь, о чем мечтаю?
О чистой мечтаю постели.
И так бы еще хотелось
горячей воды из крана…
Ах, мама, все мое тело —
одна огромная рана.
Вши, блохи меня съедают,
и я от бессилья плачу,
а там, на свободе, знают,
что слово «дурхфаль» значит?
И можно идти поляной,
что-нибудь напевая.
Ах, ты не знаешь, мама,
порой тоска какая…
Мечусь я в бессилье и муке,
такое безумье находит,
протягиваю в тьму руки
к жизни… к свободе…
БЖЕЗИНКИ
Лесок небольшой, настоящий,
березы, ели, осинки,
и называется место
очень красиво — Бжезинки.
Хоть нынче здесь все иначе,
чем до войны бывало,
сейчас здесь голо и пусто
и как-то глухо стало.
Ландыши на полянах
цвели здесь в былые годы,
теперь для красы пейзажа
поставлены дымоходы.
Раньше здесь были конюшни,
крестьянские хаты, маки,
теперь стоит мрачная баня,
«хефтлинги» и бараки.
Раньше цвели ромашки,
бродили гуси и куры,
теперь цветут цветочки
гитлеровской культуры.
Раньше земля зеленела
в садах здесь сеяли рутку,
но кто изменил все это?
Славную выкинул шутку!
Радио громко играет
у шефа в его приемной,
звучит мелодия вальса
мотив приятный и томный:
«На свете все проходит,
всему скажи: прощай!
И за декабрьской стужей
опять настанет май».
Можно бы прогуляться,
но всюду видишь преграду —
ты проволокою стиснут,
Как зверь, попавший в засаду.
— Прекрасный вечер, пани,
смотрите, ночь какая,
какое звездное небо,
я молод и вы молодая.
Не надо отодвигаться
и нет в том, поверьте, риска,
просто давно я, пани,
ни с кем не стоял так близко.
Скажите, пани, откуда
приехали сюда вы?
Я прибыл назад два года
транспортом из Варшавы.
Там дом, жена и ребенок,
в саду у нас груши, сливы…
Но это так далёко,
и вряд ли они теперь живы.
Пожалуйста, улыбнитесь
и здесь ведь солнце бывает.
Неужели весна ничего
уж в вашем сердце не вызывает?
Музыка где-то играет,
приятно, тепло, прямо рай…
Постойте, пани, куда вы?..
«Es geht alles vorbei». {14}
— Мой пан, я тоже вижу
звезд голубых охапки,
только что там за пламя?
— Ничего. Там сжигают тряпки.
— Мой пан, в груди моей тоже
чувство весна пробуждает,
только что там за странные трубы?
— Ничего. Там людей сжигают.
— Мой пан, в душе моей радость
рождают весны приметы,
только что за поход там странный?
— Ничего. Там живые скелеты.
— Мой пан, я тоже тоскую,
хоть в сердце печали скрыты,
но что это там у барака?
— Ничего. Чей-то труп забытый.
— Мой пан, вы правы, я знаю,
что я еще молодая,
и от этого мне больнее,
от этого так грустна я.
Я не знала, что встречу всё это,
но нет, я слез не прячу,
нет, нет, мой пан, поверьте,
я в самом деле не плачу.
…А вальс звучит с той же силой,
ароматами манит май,
и поет чей-то голос милый
«Es geht alles vorbei».
С восходом солнца
шумят бараки,
конвой у входа
и с ним собаки.
«На аусен» команда,
здесь любят парады.
Глядят жандармы
из-за ограды…
Сейчас начнется фарс наш обычный:
смотри на тучи, как фантастичны,
как дым красиво вьется над крышей…
«Десятницы! Вверх номер! Выше!»
И — марш рядами через ворота,
старых и новых, всех ждет работа,
худых и толстых, кирка всех любит,
путь знаешь — через блокфюрерштубе.
Трепы, ботинки, ботинки, трепы,
идут к работе, глупой, нелепой,
парадным маршем под лай собаки,
венгры, испанцы, чехи, поляки:
копать окопы,
зарыть окопы.
Вниманье — с нами страны Европы!
Так начинай обычный путь,
иди вперед,
дурнем не будь.
Кто отстает?
В ногу, вперед.
И снова день
один пройдет.
И год пройдет,
сожми кулак
и снова в путь,
равняй свой шаг.
И ничего,
что натощак
и под дождем,
равняй свой шаг.
Эта муштра
в крови у нас.
Эй, не зевай,
получишь в глаз.
Смотри, не плачь,
здесь слезы — блажь,
а продолжай
трагичный марш.
Желанье, мысль
ты должен гнать.
Стройся по пять!
Стройся по пять!
Оркестр дает
привычный такт.
Усвой один
обычный факт,
что звук глухой
всегда в ушах —
то барабан.
Гони свой страх.
Как камень глух
и нем, как сфинкс,
шагай же — links — links,
links — links!
Дахау, Аушвитц, Гузен, Маутхаузен,
все за ворота, маршем «на аусен».
На истребленье уводят в поле,
муку сменяет новое горе.
Лесом, вдоль луга и крематория —
ваша победа, ваша Виктория.
В снег по болотам, в грязи шагая, —
это удача ваша большая.
Вы бы весь мир погрузили в вагоны,
вы бы хотели сжечь миллионы.
Но миллионы — помните это —
с другою мыслью встают с рассветом
и, маршируя здесь под конвоем,
шествие видят в мечтах другое.
И в каждом сердце звуки напева,
мечты грядущего: левой, левой.
Поверь, придет
наш Первый май,
прекрасный май,
свободы май!
За горе свое
миллионы вдов
пойдут в такт песни,
песни без слов.
За боль и кровь
всех этих лет
придется вам
держать ответ.
Да, он пробьет,
возмездья час,
тогда судить
мы будем вас,
за этот марш
бить и терзать,
так же оркестр
будет играть.
Будете выть,
что тяжело,
а мы на зло,
а мы на зло!
За кровь и жертвы
этих лет —
за все дадите
нам ответ!
За столько мук
и столько розг
вам в грудь —
клинок и пули —
в мозг!
За каждый стон
и каждый крик
вам в лоб — свинец,
а в сердце — штык!
За — столько горя, вздохов, слез
палач пусть сдохнет, точно пес!
Чтоб радостно вздохнул весь свет,
сотрем нацизма всякий след!
И лишь тогда, остыв от гнева,
споем свободно: левой, левой.
Танцуй, девчонка,
как приказали,
скрой под улыбкой
свои печали.
Пред господами
танцуй, бедняжка,
хоть в горле слезы,
на сердце тяжко,
хоть эти люди
тому причиной,
что братья, сестры
гибнут невинно.
Танцуй, девчонка,
не открывайся,
пусть эти ножки
кружатся в вальсе,
танцуй под звуки
томного джаза,
забудут расу
в пылу экстаза.
Танцуй, девчонка,
под ритм фокстрота,
ведь это тоже
твоя работа.
Днем упаковка,
это всем ясно,
вечером — танцы,
это негласно.
Танцуй, девчонка,
танцуй им танго,
они пугают
высоким рангом,
они пугают
смертью тотальной
и ободряют
улыбкой сальной.
Танцуй им чардаш,
лакеям мерзким,
печали лечат
вином венгерским.
Расшевели их
пляскою жаркой,
мать твоя тоже
была мадьяркой.
Танцуй им румбу
под джаза звуки,
не вечен сон твой
про кровь и муки.
Кружись, порхая,
птицей крылатой,
мать умертвили,
убили брата.
Танцуй, девчонка,
в пятнах румянца,
они заплатят
за эти танцы.
Пусть войско смерти
всё в землю ляжет.
Тебя простит бог,
а их накажет.