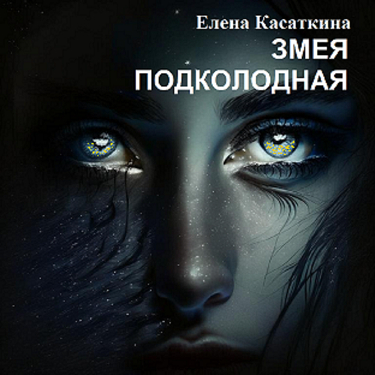Помни и ты
Четыре дня. Четыре долгих, нескончаемых дня войны. Бой. Ожесточённый, затяжной, беспощадный. Бой в окружении, он не за жизнь, он за смерть.
Никогда после он не рассказывал, как это. Не потому, что забыл, и рад бы забыть, а потому, что помнил. Выбраться из окружения удалось только троим.
Первая ловушка поджидала у реки Оржица. Заметив, немцы запалили пулемётной очередью, и их осталось двое. Он и председатель парткома Жухрич Георгий Карпович. После Оржицы было принято решение — прятаться в болотах, а передвигаться ночью. И тут их поджидала вторая ловушка.
Болото — укрытие надёжное, немцы в болото не лезли, боялись. Увязли они по самые уши, только голова на поверхности, а тут ещё и подмораживать начало, поздние весенние заморозки, будь они неладны. Вот так и оказались в ледяном плену. Вытаскивали друг друга.
Один раз чуть не утонул Жухрич, вовремя его Тихон за шиворот схватил, а так бы и сгинул командир. А тут ещё беда — холод, а они вымокли до нитки. Благо у Жухрича была фляжка со спиртом. Он и спас, родимый. По глоточку пили через небольшие промежутки времени, так, чтоб не замёрзнуть совсем. Меркой служила крышечка фляжки.
Выбрались только под утро, а когда выбрались, долго сушились на крыше дома, расположенного на окраине опустевшей деревни, что попалась по дороге. Там же обнаружилось кукурузное поле. Початки были сорваны, но кое-где можно было разглядеть втоптанные в землю зёрна. Жевали прямо так, грязными.
Да ещё запомнился подсолнух у дороги. Вырос сам по себе и торчал поникшим соцветием среди пожухлой травы, как исполин. Семена почти полностью выклевали птицы, но им удалось выковырять кое-где сохранившиеся семечки.
Так и шли, перебежками, куда ноги несли, а несли они на юг, в родные места. Уже на подходе к Днестру попали под бомбёжку. Гул самолётов, рёв моторов, комья земли от разрывов - всё смешалось, оглушило. Животный страх заставил Тихона собраться с последними силами и рвануть в лесополосу. Тогда и потерял он из виду командира своего.
Когда немецкие бомбардировщики улетели, он ещё долго бродил по окрестностям, пытаясь найти Жухрича, не живого, так мёртвого, но тот как в воду канул. Делать нечего, пошёл дальше, наутро вышел к Днестру. На месте моста одни устои и быки из воды торчат.
Благо, лето на дворе. Вопросом, хватит ли сил, не задавался, должно хватить. Чтоб он до дому не дошёл? Не доплыл? На самом подходе сгинул? Ну уж нет.
Хватило сил. Хватило. Выплыл, снял гимнастёрку, отжал, снова надел и пошёл.
Одичалый город не узнать, разбитые окна старого базара, закопчённый купол церкви - всё знакомо и незнакомо. И вот уже дом тестя, там ждёт его Улюшка с… Дочь? Сын? С ребёночком. Толкнул калитку, шагнул в залитый солнцем двор. Тихо. В огороде три тонкие фигурки. Старик, женщина и ребёнок. Стоят очи долу. Словно изваяния у небольшого холмика земли. Маленькая девчушка держится за ногу женщины, поворачивает головку и, завидев Тихона, начинает кричать.