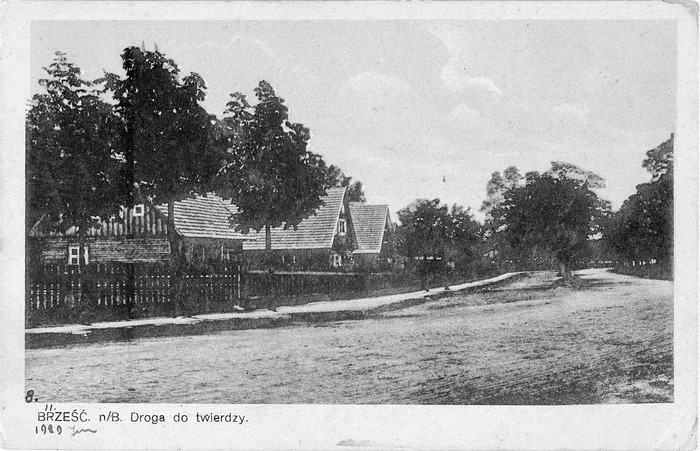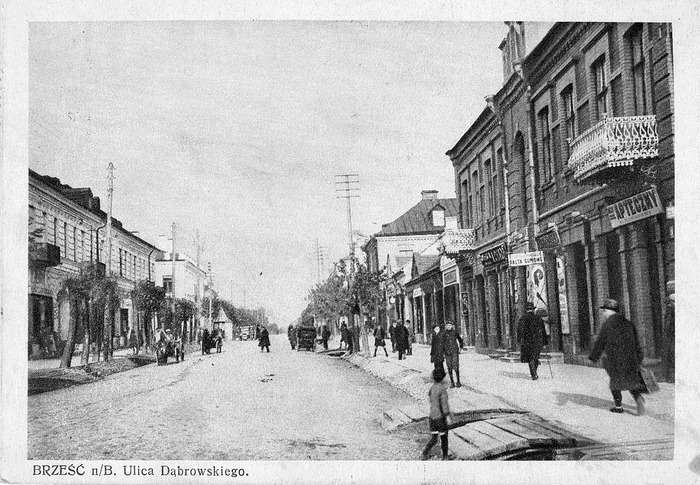(Это все не мое, а с сайта газеты Вечерний Брест.
(ВАСИЛИЙ САРЫЧЕВ http://www.vb.by/projects/oldbrest/)
Вещь необыкновенная! Статьи постепенно собираются, и выходят отдельными книгами.(Очень много неизвестных и трагических историй. Захватывает.)
В августе 1987 года Валентина Ивановна Сачковская, больше известная как Валя Зенкина – 14-летняя дочь старшины музыкантского взвода, отправленная немцами передать ультиматум защитникам Брестской крепости и оставшаяся в каземате, – адресовала музейному сотруднику Татьяне Ходцевой тетрадку воспоминаний о молодежном подполье в оккупированном городе. У Татьяны Михайловны, десятилетиями поддерживавшей связь с очень многими свидетелями и участниками брестских событий июня 1941 года, именно с Сачковской сложились отношения не просто неформальные, а душевно открытые. «Она не врушка», – обронила как-то Татьяна Михайловна на мои расспросы, а такая характеристика из ее уст дорогого стоит…
«Где-то в конце августа или начале сентября 1941 года в оккупированном Бресте я встретила свою школьную подругу Цилю Пикус (мы вместе учились в 7-м классе СШ № 15).
Циля сидела на скамейке в сквере на ул. Гоголя около какой-то могилы. Я тогда еще не знала, что какие-то добрые люди похоронили на месте гибели Цилину маму и поставили деревянный крестик. Циля только выписалась из больницы после ранения, а ее братья Лева и Борис еще находились там. Их квартира на площади Свободы была разграблена, и Циля поселилась во флигеле во дворе того же дома.
Подруга пригласила меня зайти. Заглянули в их бывшую квартиру и нашли на полу портрет отца, но вбежавший человек вырвал его из рук и сказал по-польски: «Нема юж его». И мы направились во флигель, где кроме Цили разместились Жуликовы, Радкевичи и Боковы.
Здесь я познакомилась с секретарем подпольного горкома партии Петром Георгиевичем Жуликовым, о чем я тогда, конечно, не знала. Он очень подробно расспросил об обороне крепости, ее защитниках, попросил побывать у лагерей военнопленных с целью поиска моих знакомых – защитников крепости. Лагерей около Бреста было несколько: в Южном, на Киевке, Граевке, где позже содержались так называемые «цивильные рабочие», направляемые в Германию, и в домах комсостава под крепостью. Там пленных держали для обслуживания немецких госпиталей, воинских частей и других учреждений.
В первые месяцы войны в городе организовывались так называемые комитеты взаимопомощи по национальностям: польский, белорусский, украинский, русский, еврейский. Все они делали ставку на молодежь и сеяли национальную рознь. В комитетах работали сравнительно молодые люди, как, например, бывший учащийся нашей школы Леонид Перевертайло – в украинском комитете. Он был комсоргом нашей школы, хорошим оратором. Не знаю, как он попал туда на работу, но вскоре его нашли повешенным прямо там же, в комитете.
Борис Пикус до войны работал слесарем в каком-то автохозяйстве. Молодой, общительный, энергичный, он сразу же после выписки из больницы стал помощником Петра Георгиевича и начал организовывать молодежь на борьбу с захватчиками.
Для того чтобы насаждаемое оккупантами идеологическое влияние на подростков не несло своего отрицательного воздействия, ребята стали разъяснять сущность этих комитетов. Собирали по детям и в домах восточников литературу и стремились к тому, чтобы в работе этой подпольной библиотеки участвовало как можно больше актива.
Помню книгу «Избранное» Матэ Залки, на которой Толя Жичилкин своей рукой вывел слова Долорес Ибаррури «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», а на книге «Как закалялась сталь» – «Мы – новое поколение корчагинцев, поможем своей стране». «Рожденные бурей», «Железный поток», другие книги передавали только тем, в ком были уверены.
Ребятам нужны были пропуска, чтобы ходить по улицам в ночное время: в крепости, где ночью не было немцев, можно было найти много оружия. Борис устроился в железнодорожную организацию пилить дрова и какое-то время работал на расчиске руин в крепости.
Конечно, я не знала, кто тогда возглавлял подполье. Я видела у Пикусов Нестеренко, который жил неподалеку, а позднее, когда они переехали на ул. Листовского (ныне Буденного. – В.С.), туда часто приходили Толя Жигимонт, Ваня Иванов, Катя Меньшикова, Володя Горин...
Ребята из гетто, которые до войны учились в нашей школе, – Михаил Фаерман, Изя Каган, Володя Эпштейн, – работали в крепости, и, когда их строем вели обратно в гетто, они умудрялись занести к Пикусам оружие или патроны («склад» был в сарае за домом). Все они состояли в подпольной организации гетто. Нередко приносили медикаменты и одежду для бежавших из плена военнослужащих.
В печку был вмонтирован радиоприемник, по нему слушали и записывали сводки Совинформбюро. Когда ребята работали, мы с Цилей гуляли на улице, а потом все вместе играли в лото, домино, и трудно было представить, что ребята только что решали важные дела.
Первым печальным событием стал арест и расстрел Володи Ковязина (сына командира батальона из 333-го стрелкового полка). Примерно в декабре 1941 года его захватили с записью сводок Совинформбюро, но больше арестов тогда не последовало.
Когда немцы начали угонять молодежь в Германию, Петр Георгиевич Жуликов через биржу труда (как я потом узнала, там работала подпольщица Елена Попова) помогал трудо-устроиться на железную дорогу, где надо было мыть вагоны, приходящие с фронта. Там валялось много немецких патронов, которые мы собирали и уносили в мусорную яму – условленное место, куда за ними потом приходили. Также мы могли следить за движением поездов по станциям Брест-Центральный, Полесский, Восточный.
В 1942 году в начале года я познакомилась с сестрами Кравцовыми – Надей, работавшей со мной и в свою очередь познакомившей меня с Верой и ее подругой Валей Бубновой, которые помогали военнопленным, но связи с ребятами не имели. Через Цилю мы связались с Жуликовым, и тот рассказал, что и как мы должны делать. На встречу мы ходили с Цилей, а потом я передала сведения Вере.
Борис весной 1942 года с группой ребят был послан создать комсомольский партизанский отряд, но так получилось, что около Подлесья их окружили. Борис погиб, а Рева, Хромова и остальные вернулись в Брест.
Циля перешла на нелегальное положение, потом ее переправили в отряд, а мы остались пятеркой: Вера, я, Валя Бубнова, Аня Николаева и Зина Брендель (впоследствии партизаны отряда им. Буденного). Продолжали заниматься начатым делом: ходили в лагеря, носили листовки, собирали оружие и патроны, вскрывали в вагонах аптечки с медикаментами.
Иногда патроны носили на явку в д. Вычулки. Там был старостой подпольщик Петр Веремчук, имевший связь с группой Жуликова. Один раз мы побывали там с Марией Алексеевной Жатьковой (Жуликовой), а потом уже сами. Приноравливались ходить в свои выходные, по два человека, причем Вера по состоянию здоровья этого не делала, у нее были слабые легкие.
Она была очень общительной девушкой, прекрасным товарищем, а нас оберегала. Ребята-пленные наших адресов не знали, а знали только ее.
После гибели Бориса и ухода Цили я иногда советовалась с Толей Жигимонтом и Ваней Ивановым, а иногда и с Марией Алексеевной. Это была славная женщина, которая, несмотря на то что имела троих детей, вместе с Мариной Алексеевной Боковой поручились в магистрате за детей Пикусов, чтобы те получили русские документы, сохранив жизнь Циле и Леве. (Леву подпольщики устроили в деревню Высоковского района, где он прожил до освобождения.)
В конце 1942 года мы готовили к побегу группу военнопленных из лагерей из-под крепости. Петр Георгиевич нам передал, что их нужно очень проверить, т. к. они находились в несколько ином положении, чем остальные. Они работали, их лучше кормили, а иногда их разрешали посещать. Мы носили им передачи, а однажды Вера показала, где живет, что оказалось роковой ошибкой...
В мае 1943-го «наши» пленные бежали по разработанному плану. До этого мы много раз ходили, изучали местность, казалось, этот план был изучен и ребятами. Я все передала Вере, она – в лагерь, но при побеге двое заблудились и пришли на квартиру к Вале Бубновой. Та отвела их на место и осталась в партизанах. Через 4 месяца Валя погибла в отряде им. Фрунзе, о чем сообщил один из бежавших тогда пленных – Тимофей Игнатьев.
К нам на встречи чаще других выходили Тимофей (впоследствии командир взвода отряда им. Фрунзе), Петр Шитаев, москвич, позже сражался в этом же отряде, Володя (фамилии не помню), и еще одного военнопленного фамилию хотелось бы забыть – Николая Ш., проживающего в Бресте. Он хорошо воевал потом в отряде, но, когда я обратилась к нему с просьбой рассказать о судьбе ребят, сказал, что никаких девушек не знает, кто-то ходил к ребятам, но сам он был женат… Один из 17-ти бежавших, знавший Веру, попал к немцам и, не выдержав пыток, назвал ее имя…
В конце июня после ареста Веры нам тоже предложили переправиться в партизанскую зону.
Игнатьев добровольно ушел в армию осенью 1944 года, и следы его затерялись, да и все они ушли воевать.
Бориса Аношкина, сына комиссара полка, расстреляли в одно время с Верой, но они даже не были знакомы. Борис, как и Вера, не выдал своих товарищей – Володя Горин и другие ребята продолжали работать в подполье.
Погиб и Ваня Иванов. Летом 1943 года он пришел в Брест из партизанского отряда, а дома его ждала засада. Ваня отстреливался и был убит. Он и Толя Жигимонт учились в СШ № 15 (где пединститут) в 9-м классе, были вожатыми.
Я знала Михаила Михайловича Жигимонта, его жену тетю Марину. Еще в начале войны, когда приходила к Циле, на площади Свободы немцы установили репродукторы и около них собирались люди, здесь встречались и подпольщики. Приходил и Михаил Михайлович, бывал он и на квартире Жуликовых.
Осенью 1943-го в Сварыни (деревня в «партизанской» зоне. – В.С.) я встретила Толю Жигимонта, который рассказал о трагедии, постигшей брестское подполье. Сам он уцелел лишь потому, что по заданию Петра Георгиевича был послан с делегацией украинской молодежи в Германию, а по возвращении уцелевшие подпольщики прямо с вокзала отправили его в партизанский отряд.
Помню Сашу Полякова, одного из соратников Бориса Пикуса, которого в 1943 году несколько раз укрывала у себя Зина Брендель.
У наших ребят (последней партии бежавших из плена) не было оружия, и мы обещали вместо оружия передать за каждого человека по 500 немецких патронов. И мы это сделали. Зина, Аня, Валя и я пошили патронташи, набивали их украденными в вагонах патронами и каждую неделю носили то в Шебринский, то в Старосельский лес.
Раз в неделю шагали 30-40 километров по лесам и болотам, носили медикаменты и соль. Медикаменты мне помогала доставать жена инструктора политотдела 6-й стрелковой дивизии Галина Попова – ее муж капитан Попов лежит на сельском кладбище деревни Черни (погиб в 1941 году). Мы не раз приходили к этой могиле. Галя была в партизанах, умерла в 1944 году. Ее подругу, Ефросинью Антипову, муж которой Александр Антипов был редактором дивизионной газеты, угнали в Германию.
О расстреле Веры Кравцовой и Бориса Аношкина я, будучи в партизанах, читала в какой-то газете, по-моему, это была малоформатная «Заря», в июле или начале августа 1943 года.
В Бресте нам с Зиной Брендель помогала еще Майя Кононова, на год моложе меня, ее отец был военным. Жила она на теперешней ул. Карбышева в одном доме с семьей Анатолия Виноградова и с нами, а потом ушла с матерью в партизанскую зону.
С Вериной мамой Варварой Иосифовной Кравцовой я переписывалась до ее кончины, она считала меня своей второй дочерью.
Трудно вспоминать, как мы, сами голодные, добывали одежду и питание для пленных, собирали в вагонах окурки, делали из них табак, потом меняли на хлеб, потом на одежду и т. д. и шли к проволоке… Они были настоящие друзья – незабываемые Верочка и Валя, Борис Пикус, Борис Аношкин, Володя Горин, Володя Ковязин, ребята из гетто…»
ВАСИЛИЙ САРЫЧЕВ