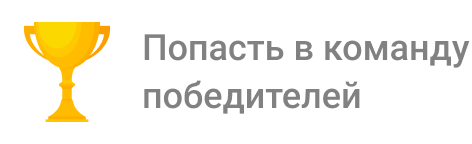Проклятое призвание. 40. В пути
Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки.
А. Вертинский
В поезде снова, как по дороге в Москву, оказалось много военных. Я старалась не смотреть в их сторону, а все же нет-нет, одним глазком, да поглядывала. Было жутко и интересно. От чужой непонятной силы, очевидно превосходившей собственную, от физической красоты тренированных тел, анатомически, структурно не похожих на твое. Особенно впечатлил меня один красавчик, кареглазый, со смуглой, южного типа кожей, правильным, идеально вылепленным лицом. Как он двигался… Мне захотелось достать смарт и потихоньку заснять его отточенные, грациозные движения. Я понятия не имела, где мне это пригодится, но чувствовала, что память может подвести. Исказит, изменит впечатление от этого прекрасно развитого тела, обманет.
Видео или фотосъемка помогла бы запечатлеть эту замечательную находку, эту потрясающую модель, но я так и не решилась достать телефон. Только исподтишка косилась на соседа, разглядывая плоский живот, руки и плечи под черным джемпером, ноги, обтянутые синими джинсами. Сильные пальцы и загорелые ладони. Машинально прикидывала, как бы я его усадила, если бы была возможность, хотя нет, пусть лучше бы стоял, прислонившись к парапету моста, и чтобы руки были сложены на груди, как у Наполеона, и смотрел бы куда-нибудь вдаль, и солнце сзади подсвечивало силуэт и лицо, лишенное какого бы то ни было выражения.
Боже, как бы я тебя нарисовала, как бы ты у меня вышел, сказочным принцем, фантастическим джедаем, борцом со злом, завязал бы узлом все темные силы, а я бы только стояла рядом да подправляла… Господи, какой типаж. Индеец из племени сиу, еще бы лук и стрелы, это ведь был бы шедевр, из рук бы рвали.
Или бластер и двухголового карлика по колено, чтобы оттенял твою силу и красоту.
Чем-то парень напоминал Дэна, только не такой пресыщенный и развращенный. Нормальный человек со здоровой сеткой морально-этических координат в голове…
И все же, обмирая от восхищения и упоенно фантазируя, я понимала, что интерес мой чисто художественный и биологический. Животный. Я восторгалась этой потрясающей особью хомо сапиенс, но едва у нас могло бы быть что-то общее. Это было как-то сразу ясно. Без разговоров.
Я была для него слишком сложной…
Мы не смогли бы удержать интерес друг к другу надолго…
А в голове звучали прощальные слова матери:
– Нета, возьмись за ум! Пора рожать! Ты думаешь, твои яичники неисчерпаемые?! Всему свое время… Рожай, пока молодая, потом не сможешь… Живешь всю жизнь, как барыня, думаешь, Сонька бы не хотела, чтобы ее дети в бабушкиной квартире жили? Это повезло, что Сашка в Питере, а Владику квартира от отцовой бабушки досталась… Да ведь если бы не ты, я, может, за Павла Игоревича и замуж бы не вышла… Квартиру – дочке… Все для тебя, всю жизнь все для тебя… Я свою жизнь загубила, так хоть бы не зря… Будет свистеть, что кандидатов у нее нет. Думаешь, я ничего не понимаю? Хватит выбирать, потеряешь время… Возьми одного, главное здорового… Нравится бумагу марать – ради бога, я разве спорю. Мы с Павлом Игоревичем воспитаем, уже решили, куда и кроватку поставим. А ты занимайся чем хочешь, хочешь танцуй, хочешь – делай имя, только о семье подумай. Ведь это же самое важное.
И темной, тяжелой волной накатывало: а может быть… мать права?
И мой долг состоит в том, чтобы родить.
Неважно от кого, неважно как. Просто.
Это моя святая обязанность.
Родить. Продолжить род.
Я единственный ребенок. Других у матери не будет.
Должна появиться на свет следующая Нета. С карими, как у матери, глазами, смуглой кожей, несгибаемой волей и несравненной способностью выносить мозг. Я – носитель уникального набора генов, что-то вроде амурского тигра. Редкий вид, исчезающая порода животных.
Я должна.
Я должна, потому что больше некому. Потому что мать оставила мне квартиру и пожертвовала ради меня возможностью каждый день заниматься сексом (ну, тут она, конечно, лукавила, все-таки я не могла поверить, что такое дело она могла провернуть исключительно ради меня). Потому что такова моя священная обязанность, слава сыну, отцу и святому духу, аминь.
Я должна.
И как бы ни пыталась я прикалываться и ерничать и от самой себя за этими нелепыми попытками в юмор скрыть тревогу и беспокойство, но все же я не могла убедить себя в том, что в словах матери нет ни капли здравого смысла. Ведь действительно, годы идут… Нет, меня не пугала одинокая старость, но, в общем-то, я ничего не имела против детей как таковых… Они мне даже нравились… ну так, издалека… в чужих колясках, вне зоны твоей ответственности.
Совсем маленьких детей я, надо сказать, вообще видела только на улице. У чужих людей. Ведь у меня не было ни братьев, ни сестер, а когда появились на свет дети тети Сони, она с семьей жила в другом городе. Просто не было возможности поближе познакомиться с этими загадочными животными – детьми. Я понятия не имела, что с ними делать, только как-то смутно догадывалась, что после их появления жизнь кардинально меняется. Мне почему-то казалось, не в лучшую сторону.
Наверное, будет очень мало свободного времени… Я не смогу ездить на выставки, полноценно заниматься творчеством. Придется перестроить всю жизнь. На много-много лет вперед. Может быть, навсегда. Зачем?..
Хотя мать говорила, что согласна взять моего ребенка на воспитание. Она повторяла эту мысль неоднократно, судя по всему, давно все обдумав. Но мне, как ни странно, такая идея совсем не нравилась.
Родить, чтобы потом отдать… Кому угодно, даже маман… Нет.
Этот ребенок, которого еще и в помине не было, представлялся мне только моим. Мне даже в голову не приходило задумываться, насколько оправдан этот собственнический инстинкт, он казался настолько естественным, что казалось, тут нечего обсуждать.
Это будет моя девочка. Только моя.
Я почему-то не представляла, что у меня может родиться сын. Нет, только девочка. Почти клон. Маленькая копия Неты. В голове смутно мельтешило что-то: ворох французских золотистых кружев и крохотное личико в них с суровым взглядом вопрошающих глаз. Наверняка у нее будет сложный характер и специфическое чувство юмора. Но я справлюсь, я в этом нисколько не сомневалась.
Как справлялась всегда. И со всем.