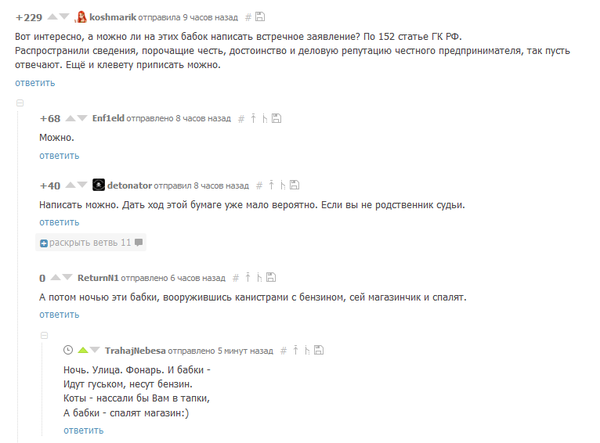asnya911
Несовпадение. 14 глава. (Роман М.И. Вайнера, 1981 год)
Патологоанатом назначил им к одиннадцати; времени оставалось в обрез, а дотолковаться они никак не могли. Скопцова нервничала:
− Я всю ночь не спала. Давыдовского читала. Цигельника.
Рытова – не лицо, а маска озабоченности – ждала продолжения. Оброчнев, скрытый в темноте, тоже помалкивал.
Они собрались в рентгенкабинете и не знали, какой диагноз написать в эпикризе. Книжные авторитеты не помогали. Диме не хотелось объяснять, что толковал тысячу раз – абсцесса нет, слишком чиста ткань вокруг тени. Эта тень – убийца. А он ее не разгадал. За два месяца больной даже не потерял в весе, кожа сохранила почти естественную окраску.
− Я была бы спокойна, не будь этой круглой тени, − сказала Скопцова. − Так что мы запишем?
Теперь она была уступчивой, беспомощной, готовой согласиться с любым мнением, лишь бы его высказал другой. Ждала подсказки Рытовой, а та молчала, обдумывала перечитанную только что историю болезни, искала зацепку какую-нибудь, объяснение этой странной смерти.
− Помогите же, Дмитрий Михайлович!
− Я не знаю, − произнес он. − Думать можно о це-эр.
− А если его нет?
− Тогда напишите, что нет.
Это начинало раздражать. Утром у больницы ему встретилась телега, запряженная соловой кобылой. На телеге из-под гробовой крышки торчали зеленые рукоятки носилок. Не надо было спрашивать, кто под крышкой и куда везут. Отца Александра отправили на вскрытие. Он мертв, и то, над чем они сейчас ломают голову, не имеет для него никакого значения.
Самолюбие Скопцовой, лучшего диагноста, по ее мнению, в городе, было уязвлено. Она страдала от неопределенности.
− Как же быть?
− Что бы вы ни написали, есть риск не угадать. Так и так несовпадение, − сказал Дима.
− Как же быть? Давайте напишем: рак.
− Этого нельзя, − вмешалась наконец Рытова. − В эпикризе нет даже упоминания о раке, а мы поставим его основным заболеванием. Высечем сами себя.
− Но ведь это будет уже третье несовпадение! − воскликнула с досадой Скопцова. − А мы боремся за стопроцентное совпадение Дмитрии Михайлович, что же вы молчите?
Она обращалась к нему − ведь он высказывал другое мнение, пусть подтвердит его положительно... Должна быть какая-то определенность!
− Но я не знаю, что это!
− Так как же?
Она занесла руку над листом, готовая записать все, что ей подскажут. Человек мертв. Правилен или неправилен диагноз − ему все равно. Это имело значение для Скопцовой − ответственность ложилась на нее. Заработать третье несовпадение, да еще с летальным исходом...
− Напишем старый диагноз, − подсказала Рытова. − Экссудативный плеврит на фоне правосторонней пневмонии, как основное заболевание, и подозрение на новообразование в правом легком.
− Мало. Можно бы еще что-нибудь добавить, авось куда-нибудь попадем, − съязвил Оброчнев.
Рытова медленно повернула лицо в его сторону, старалась разглядеть его в темноте. Она контролировала течение болезни, считала, что Скопцова делает все, что нужно, врачебная этика не позволяла ей вмешиваться в лечение, и теперь она, наверное, корила себя, что контроль ее был недостаточно жестким. Вне больницы она несла полную ответственность за лечебный процесс. Уходить же от ответственности или задним числом переиначивать течение болезни она не привыкла.
− А что делать? Вы же сами видите снимок. Пройти мимо этой тени?
Скопцова вертела головой за каждым.
− Что вы предлагаете?
Рытова повторила старый диагноз
− Была не была, − решилась Скопцова. – Напишем так.
Расписалась.
− Повеситься можно!
Ей никто не ответил.
− Дмитрий Михайлович, вы поедете?
Ищет союзника. На случай, если придется доказывать патологоанатому, что они-таки подозревали рак. Он и сам еще утром, пропуская мимо себя выезжавшую из ворот телегу решил побывать на вскрытии – надо же увидеть, что это за чертов узел, который он никак не может объяснить.
Женщины ушли переодеваться. Оброчнев переместился на стул, − там только что сидела Скопцова. Он был растерян и мрачен. Дима скинул с себя халат, отдыхал, обнаженный по пояс. Воздух сквозил в вытяжную трубу и студил кожу.
− Виктору Борисовичу Ломову, − почти торжественно проговорил Оброчнев, − понравился Крым. Он переезжает туда навсегда. Где потеплее.
− Нашли кому завидовать.
− Я не завидую. − Он выдержал паузу и добавил: − Ходят слухи, что и вы нас покидаете. Да еще крестницу мою умыкаете.
Это Лиля, наверное, уже раструбила про свой вояж в Обнинск, а Илья, один из тех, кто новости узнает и проверяет первым. Диме не хотелось говорить про свои дела, он и сам не знал, как быть. После давешнего консилиума, когда они, четыре опытных врача, так и не сумели разгадать облик уже состоявшейся смерти, он опять скис. Вчерашняя решимость, уверенность в себе показались ему ребячеством.
− Погодите радоваться, − сказал он.
− Кто вам оказал, что я радуюсь? Наоборот, мне жаль. В вас есть нечто... как бы вам сказать... вы хороший раздражитель, с вами как-то интересно работать. Честно без лести. Но вы правильно делаете, что удираете.
− Я не удираю.
− Ну, уезжаете. Какая разница? Я уж не говорю, что для больницы это ощутимая потеря − сразу три врача. Мне вас будет недоставать...
Дима вздохнул и протянул руку за рубашкой.
Рытова села с шофером. В кузове санитарной «черепашки» было всего два откидных кресла. Дима, самый молодой, перебрался через них на стальные салазки для носилок, примостился там, опустил ноги вниз. Оброчнев занял переднее кресло, а Скопцова уселась позади, придавив бедром Димину голень. Мышцы у нее были упругие, плотные, теплые. Чтобы снять подозрение, будто ему приятно такое тесное соседство, он оказал:
− Вам придется меня потерпеть.
− Ничего, ничего.
Раньше пренебрежительная усмешка, с какой она дала понять что он волнует ее не больше, чем железка какая-нибудь, показалась бы ему оскорбительной, а сейчас нимало не тронула.
Он сидел боком к движению, за стеклом перегородки видел головы Рытовой и водителя. Скопцова полулежала в кресле Ее ноги, согнутые в коленях, немного полные красивои формы, в нейлоновых чулках казались загорелыми, профиль лица, чуть затемненный и правильный, с выдвинутым волевым подбородком, отражался розово в боковом стекле, и сквозь прозрачное отражение видны были дома, деревья, витрины магазинов, нарядная толпа, сумочки, босоножки, все проносилось мимо, реальное, живое, занятое, а в стенах больницы кажется, что на свете есть только больные и умирающие. А толпа вот какая!
− В Москве и Ленинграде пять процентов несовпадений считаются в пределах нормы, а нас заставляют бороться за стопроцентное совпадение диагнозов, − сказала Скопцова.
Она искала сочувствия. Никто ей не ответил. Хотелось побыть наедине со своими мыслями. Что может быть безнадежнее, чем вымоченный в формалине труп? Но каким-то образом воображение выкручивалось, искажало и даже в трупе допускало жизнь. Когда-то Дима вычитал у Михаила Кольцова в «Испанском дневнике» такое описание: в стороне от дороги лежат убитые фашистами крестьяне; накануне всю ночь лил дождь, и в разинутых ртах темнела глубокая вода.
Возле областной больницы «черепашка» сбавила скорость, свернула на узкую улочку и затряслась на булыжниках вдоль глухой рыжей стены. За этой стеной, где-то в глубине двора, находился морг.
Въехав в широкие ворота, «черепашка» затормозила перед красным дощатым строением с крылечком.
Оброчнев грузно выбрался, помог Скопцовой, а потом и Дима спрыгнул на землю.
Солнце, высокое, горячее, жгло, и от раскаленной пыли, которой тут было много, отдавало жаром. Во дворе шло строительство − корпус с лоджиями подведен под крышу, а вокруг мусор, щебень, кучи битого кирпича, доски, бетонные плиты.
Рытова велела шоферу вернуться через час, отпустила его, и они гурьбой вошли в здание.
Чтобы попасть в лабораторию, нужно было пройти музей, большой сумрачный зал, где на открытых стендах в стеклянных цилиндрах, залитых доверху спиртом, хранились уникальные уродства.
Патологоанатом Козлов, бог и судья всех лечащих врачей, стоял у окна с каким-то спортивного вида парнем. Все направились туда.
− Что вас так много? − спросил Козлов.
− Интересный случай, − пробурчал Оброчнев.
− А я тут показываю товарищу из газеты голову Васьки Рыжего.
− Пишу очерк об одном старом большевике, а он участвовал в ликвидации банды Рыжего, − сказал газетчик и показал на ближайший цилиндр.
В спирту действительно была человеческая голова, небольшая, деформированная временем, скулы, челюсти, нос были обострены, а жидкая бороденка и усы прилипли к обесцвеченной коже.
− Помнит его кто? − поинтересовался Козлов. − Разбойник был, каких свет не видал. Жестокости необыкновенной.
− В детстве я о нем слыхал, − сказал Дима. − Говорили, будто отрубили ему голову и спрятали. А я не верил.
− Не спрятали. Сохранили в назидание потомкам. Тогда, в 1928 году, его имя произносили шепотом. Ужас что вытворял.
− Не буду вас больше отвлекать, − сказал газетчик.
Все двинулись в глубь музея за Козловым. Когда-то высокого, старость согнула его, перекосила плечи, и он шел, кренясь на правый бок. Газетчик незаметно отстал.
В лаборатории трудились две девушки.
Козлов сел в кресло по одну сторону стола, остальные − по другую, на длинную скамью, как студенты, пришедшие к профессору на экзамен. Козлов положил сплетенные руки перед собой и приготовился слушать.
Рассказывая, Скопцова несколько раз делала акцент на том, что подозревала злокачественную опухоль, да не успела вот уточнить, больной неожиданно умер. Патологоанатом, старый и мудрый, насмешливо разглядывал ее.
− Ну, хорошо, − сказал он. − Пойдемте.
Поднялся, взял из стеклянной банки проволочный крючок, и все гурьбой двинулись за ним.
Во дворе пробирались между кучами песку, в дальний угол к длинному каменному сараю с широкой дверью. За штакетником, оставлявшим проход к этим дверям, на жалких кустах сирени сушились распростертые простыни в кровавых пятнах. Это был морг.
− Давно не был на складе готовой продукции, − пошутил, храбрясь, Оброчнев, но откусил улыбку под строгим взглядом Козлова.
Один за другим, пригибаясь под низким потолком, они вошли в переднее помещение, где на скамьях лежало три трупа – мужчины и двух женщин.
− Откуда? – оживилась Скопцова; ее сразу утешило: смертность не только у нее.
Отец Александр лежал голый, со сложенными руками на груди, под самой бородой; на пальце одной сверкало золотое кольцо, запястье другой туго обхватил коричневый ремень с часами. Часы шли. На циферблате, как красная жилка, пульсировала секундная стрелка; крест на черной ленте сполз на плечо. На пожелтевшей ноге, от щиколотки до тазовой кости небрежно чернилами было написано: «Гай Александр, 46 лет, ум. 17.7. Д-з: пневмония, б-ца С-ко».
Небрежная фиолетовая надпись. Как на багаже, который отправлен наспех по железной дороге: «Б-ца С-ко». Адрес отправителя.
Вошла низкорослая санитарка в замызганном халате, рукава были засучены до локтей. Дима слышал про эту тетю Симу, которая уже двадцать лет работает в морге. Секцию делала она – необразованная санитарка блестяще знала анатомию, и врачи трепетали перед ней не меньше, чем перед Козловым.
− Ну, Сима, давай, − сказал Козлов.
Рытова и Скопцова подвинулись поближе.
Тетя Сима надела фартук. Подсунула под голову покойника твердую подушку и сложила его руки вдоль туловища. Проволокла его повыше, чтобы уложить поудобнее, он мотал головой, точно знал, что произойдет, и сопротивлялся. Сердито ворча, она встряхнула его, повернула голову, чтоб борода не мешала.
В руке у нее сверкнул широкий скальпель. Под его острием от яремной впадины вдоль тела пробежала желтая канавка.
Дима давно уж не был на вскрытии. Первый раз, студентом, он шлепнулся в обморок. Тогда, как и сейчас, с расширенными глазами следил за движениями скальпеля. Ужас от этой несовместимости живого и стального жил в нем до сих пор, хотя долгая практика притупила остроту.
Дима взглянул на Оброчнева, тому тоже было не по себе. Только женщины смотрели озабоченно на нож.
− Ну, что там, тетя Сима? − не выдержала Скопцова.
− Рак.
− Ну!
Козлов крючком постучал по краю изъятого легкого − под крючком ощущалось затвердение. Опухоль. Начинаются чудеса. При чем тут левое легкое? Ведь было совершенно чистым.
Второе легкое имело совершенно нормальный вид. Козлов постучал крючком по средней доле, по месту, что показывало злополучную тень, там ощущалась твердость.
− Глядите! Вот это работа!
Тетя Сима держала в руках чудовищно гипертрофированную почку, серую, сохранившую бобовидную форму.
− Что это такое? − закричала Рытова, − Что это такое?
Никто не нуждался в объяснении. Всем и так было ясно. Чудовищная почка. Как гром с ясного неба. Дима подозревал, что плеврит − реакция на абсцесс в брюшине, но совсем не думал о почках.
− Повеситься надо! − выговорила наконец Скопцова. Она была вконец ошарашена.
− Подождите вешаться, − сказала тетя Сима. − Вы еще нужны здесь.
И Рытова, и Скопцова, и Оброчнев придвинулись ближе, забыли, что они без халатов, и не боялись больше испачкаться.
− Я такого еще не видел, − признался Козлов. − Сколько лет работаю, а такого не видел. Вот гадская болезнь, без фокусов не может.
Дима наклонился вперед. В центре средней доли легкого, в том месте, где на снимке была тень, темнела круглая кроваво-красная полость − это вокруг крупного бронха шел распад тканей. Ну и рачище!
− Вот типичный рак! − Козлов тыкал свой крючок в разрез легкого. − Видите, вот раковая ножка, вот клешней обхватывает. − Он показывал на красные дуги вокруг полости.
− Вы считаете, что он в легком? - спросил Дима. − Из легкого рак не дает метастазы в поддиафрагмальные органы.
− Проверим.
Они отошли от стола к дверям.
− Удивительная все-таки штука − человеческий организм. Как он тянул, на чем жил? Сколько в человеке сил! Потрясающе! Не на чем, а живет, − удивлялась ошарашенная Рытова.
Дима стоял уничтоженный. Он не слушал о чем говорят у дверей. Ему стиснуло виски! Тетя Сима, работая иглой, черной ниткой сшивала покойника большими стежками внахлест, как сшивают грубый мешок, и от лобка до гортани торчал грубый рубец.
Затем снова поместила руки покойника на грудь. Поправила голову, бороду, положила на грудь крест. И был ли это еще человек? Это был даже не труп: все, что скрывала сшитая кожа, посечено и никак уже не совмещалось с жизнью. Ни здешней, ни иной. Если бы отец Александр мог взглянуть на себя, на эту чернильную надпись, на этот адрес без назначения!
− Так мы будем считать совпадение диагнозов? − заискивающе спросила Скопцова.
Козлов удивленно уставился на нее:
− О каком совпадении может быть речь?
− Но мы диагностировали рак!
− Когда?
− За неделю до смерти.
− Разве вы лечили от рака?
− Нет, но мы его диагностировали. Дмитрий Михайлович, покажите снимки.
Дима не сдвинулся с места.
− Дмитрий Михайлович!
Он тяжело взглянул на нее, и она поняла, что лучше не повторять своего требования.
− Вы ничего не делали, даже онколога на консультацию не пригласили, − сказал Козлов.
− Если бы он не умер, мы бы пригласили. Кто ж виноват, что он умер!
Они двинулись гурьбой на свежий воздух.
На солнце было ярко, сухо, точно выбрались из сырой пещеры!
Оброчнев привалился к штакетнику, − на ветках сирени все еще сушились простыни в бледно-рыжих пятнах, − повис рукой на планке: его мутило. Рытова носовым платком терла щеки, точно сдирала с них приставшие запахи морга.
Скопцова торопилась за Козловым.
− Неужели вы запишете несовпадение?
В школе она, наверное, так клянчила хорошую отметку: «Но я ведь знаю. Ну спросите меня еще раз».
− Что, Илья, худо?
− Иди, иди, я догоню.
Когда Дима подошел, обе женщины стояли у крыльца, а Козлов, поднявшись на несколько ступенек, возвышался над ними, как судья.
− Ведь у нас зафиксировано подозрение на рак.
Скопцова клянчила уже по инерции: авось смилостивится.
Козлов попрощался, посоветовал не очень огорчаться и скрылся в дверях. Через минуту появился бледный Оброчнев.
− Пойдемте на дорогу, − предложил он.
Они миновали ворота, стали в кружок посреди мостовой. Рытова, движениям которой беспокойство придало неожиданную живость, то и дело поглядывала в конец больничного переулка, откуда вот-вот была вернуться «черепашка».
− Грош нам всем цена после этого! − проговорила она. Вскрытие ошарашило ее: проморгать такой рак! Ее реплика, и еще больше − тон ее насторожили Диму. Она тут при чем? Зачем взваливает ответственность на себя? Не она вела больного.
− Повеситься надо! − в сотый раз повторила Скопцова. − Что ж это такое! Третье несовпадение за год. Двадцать процентов − и все в моем отделении.
− Я должна сесть, меня ноги не держат, − пожаловалась Рытова. − Нет ли у кого газеты подстелить?
Дима протянул ей пакет со снимками. Рытова отошла к бетонному кубу, сброшенному у дороги, положила пакет и присела.
− Грош нам всем цена после этого! − повторила она еще раз.
− Да, − согласилась Скопцова.
Вверх по переулку, неся два полных ведра воды, шла женщина в желтом сарафане.
− Солнышко, дайте попить, − обратился к ней Оброчнев.
Женщина остановилась, опустила ведра на землю. Оброчнев наклонился, сжал бока ведра ладонями; выпрямился, прополоскал рот, сплюнул к забору, снова наклонился и стал пить.
− Кто еще будет? − спросил он, предлагая ведро.
Никто не выразил желания. Тогда он выплеснул воду на землю, пошел вниз по переулку к колонке, вымыл под струей ведро, наполнил его водой, легко понес назад и вернул женщине.
− Спасибо, солнышко, − поблагодарил он. – Век не забуду.
Женщина улыбнулась и пошла дальше.
− Двадцать процентов! – воскликнула Скопцова. − Действительно, грош нам всем цена!
Дима вытаращил глаза: ну и женщина! Ловко повернула себе в утешение. На конференции, на разборе этого смертного случая, ей придется держать ответ, отбрехиваться, но она уже сейчас лихорадочно соображала, как выйти сухой из воды, как разложить ответственность на плечи каждого, а тут Рытова сама напросилась. В ту самую минуту, когда банкротство становилось очевидным даже самой Скопцовой, ей, как спасательный круг, кинули круглую фразу. И кто? Рытова! Может быть, катастрофа чему-нибудь научила бы Скопцову, заставила бы заняться переоценкой собственных ценностей, а эта злополучная фраза все смяла, спутала.
«Всем нам» − значит, можно сделать вид, что с нею самой ничего страшного не произошло, что не ее намеренное искажение правды, не ее трусость породила целую цепь нелепостей, а всего лишь неведение, непонимание, а это естественно.
− Надо было написать в эпикризе: рак. Козлов не смог бы придраться, сказала Скопцова.
− Умоляю вас, перестаньте, взорвался Дима. − Хоть сейчас не лгите. Тут в мертвецкой лежит священник. Он лгал, потому что верил в ложь. Но вы человек науки, вы-то зачем лжете!
− Нет, повеситься можно!
− Не можно, а нужно, − сказал вдруг Оброчнев.
− Что с вами, Илья Демидыч? Если вешаться из-за каждого смертного случая, нас вами давно на свете не было бы. За кого нас принимают?! − спросила Скопцова.
Рот ее растянулся в нахальной улыбке, на щеках вокруг него обозначились концентрические морщинки. Как жабры.
− За тех, кто мы есть, − сказал Оброчнев.
− Кто же мы − мерзавцы?
− Не провоцируйте меня на откровенность, Антонина Ивановна. Я на пределе и не намерен деликатничать, как Дмитрий Михайлович. У меня такое просится на язык!
Открыто он никогда так ей не противоречил, бормотал нечленораздельное, будто огрызался, но при первом же окрике уступал и подчинялся, а сейчас перешагнул через свою уступчивость и нежелание портить отношения, превратился в раздраженного быка, готового боднуть. Скопцова это заметила и сочла за лучшее смолчать. Но подбородок энергично вздернулся, она вся приосанилась, преобразилась, похорошела даже − олицетворение вызова. В мозгу у нее, вероятно, уже вспыхивали разящие аргументы, их огонь плясал за очками у нее в глазах. Она выкрутится! Она знает, как это сделать, она готова схватиться с кем угодно. У нее будто открылось второе дыхание. Свежая, она с чувством превосходства поглядывала на приунывших коллег, томившихся на солнце. Долгожданная «черепашка» появилась в конце переулка, покатилась, затормозила.
Облако пыли по инерции понеслось на них они вскинули руки, защищаясь.
Рытова кряхтя, забралась в кабину к шоферу и осела, как физически разбитый человек.
− Кто куда?
− Вы меня отпустите, − попросила Скопцова. − У меня сын в лагерь уезжает, надо его собрать.
Рытова кивнула, и Скопцова, не попрощавшись, зашагала деловито прочь, как победитель.
− И мы пойдем пеши, − сказал Оброчнев за себя и Диму.
Рытова еще раз кивнула, и «черепашка» покатилась, гремя неплотно закрытой дверцей. Они остались в горячем переулке вдвоем с Оброчневым.
− Теперь куда? − спросил Оброчнев.
− Куда угодно.
− Тогда ко мне. Выпьем. Помянем беднягу.
Диме было все равно, куда идти, что делать. Можно и выпить за помин души. Лишь бы не возвращаться в больницу, лишь бы скрыться подальше от человеческих глаз, пережить как-нибудь эту жуть собственного ничтожества, прийти в себя, чем-то оправдаться в собственных глазах. А то как завтра продолжать свое дело?
Врачу единственное оправдание − работа.
− Лидуша! − крикнул Оброчнев. Заглянув в одну дверь, вторую, сходил на кухню, вернулся насупившийся − квартира была пуста» − Давно ей пора быть! Подождем, а? Придет с минуты на минуту.
Он провел Диму в большую комнату с серым ковром на весь пол и отправился на кухню. Из-за темных штор по краям пробивался солнечный свет, в комнате было сумрачно и душно.
Дима, сидя в кресле, повторял в памяти ход мыслей с первой рентгеноскопии, когда диагностировал плеврит. Может ли он винить себя? Он рентгенолог, его положение не позволяет вмешиваться в лечение − это компетенция других врачей. Но в Кевде ведь было по-другому, его слово имело вес, а тут Скопцова давила на него, чтобы отказался от своего мнения. Это ее вина, что поиск истинного заболевания даже не велся. Пыталась доказать ему нонсенс. Но ведь прекрасно знала, что у больного пневмоторакс.
Неожиданно в квартире что-то щелкнуло, зажужжало. Дима вздрогнул, повернул голову на эти странные звуки и догадался, что включился холодильник.
Потом смолкло, из кухни в прихожую протопал Оброчнев, снял трубку телефона,
набрал номер.
− Алло, позовите Лиду. Ушла? Давно? Часа полтора?
Он положил трубку, показался в комнате, сел в кресло напротив Димы, хмурый, нехороший.
− Пусть не думает: мы еще чего-нибудь стоим, − сказал он с угрозой, и Дима понял, что это не только о медицине.
− Илья, ты заметил, как обрадовалась Грандесса этой фразе: «Грош нам всем цена». Она теперь за ней, как за каменной стеной. Как удобно: «нам всем»! Совесть чиста − никакой собственной вины.
Оброчнев хмурился, напрягал внимание − о чем речь? Дима видел, что он не здесь, а у дверей, на лестничной площадке: не идет ли жена?
− У собственного суда виновным не бываешь... Ладно, посидим без нее, − не выдержал он, поднялся и, ссутулившись, пошел из комнаты.
Разойдясь с первой женой, он женился на молоденькой, теперь ревновал и мучился. Дима поднялся за ним.
На кухне в хрустальном графине в разбавленном спирте плавали кусочки желтой цедры. Рюмки были из толстого граненого хрусталя.
Оброчнев плеснул из графина, они молча чокнулись. Спирт обжег Диме рот. Он отдышался, ковырял в тарелке, повесив голову. Что дальше? Тошно быть врачом, когда беспомощен. Тошно, хоть не ходи в больницу. «Грош нам всем цена!» И Скопцова может притворно вздыхать. Все будет по-прежнему, борьба за стопроцентное совпадение, за отсутствие жалоб, за передовой вид. Все это до тошноты противно. Где же мудрость побежденных? Ведь еще древние понимали: слава дается победителю, а мудрость – побежденному. Вот Илья вроде что-то понял. Надолго ли?
В замок входной двери кто-то вставил ключ, раздался щелчок. Оброчнев насторожился, замер, а потом принялся грызть копченку.
На кухню робко вошла Лидуша. Зонтик висел на согнутой в локте руке, а кукольное лицо было безмятежно.
− О, у нас гости! И я с вами выпью.
Взяла из буфета рюмку и села рядом с мужем. Он искоса взглянул на нее.
− Я была в кино, − объяснила она. – Дима, налейте мне.
Она отпила чуть и положила голову на плечо Оброчнева. Он продолжал грызть копченку, уставясь взглядом в стол, не изменил позы, а черты лица его разглаживались, и через минуту он оживился и повеселел.
Они переговорили с Ильей о многом, откровенно, без обычного его ерничества, про больницу, про медицину, «за жизнь». И спирт оказывал свое действие, снял остроту отчаяния, да и Лидуша оказалась славной женщиной, все было не так уж мрачно. Под вечер, когда Дима собрался уходить, зазвонил в прихожей телефон. Лидуша отправилась послушать и вдруг крикнула Диму.
− Вас, − сказала она без удивления, передавая трубку.
Она вернулась сразу же на кухню, прикрыла за собой дверь, чтобы он мог говорить не стесняясь.
Дежурный врач долго объясняла, что звонили в больницу из Кевды, и она послала сестру к Диме, а потом кто-то сказал, что он уехал с Оброчневым, и она решила на всякий случай позвонить сюда, и очень хорошо, что застала его здесь, она сейчас перезвонит на междугородную, даст номер Оброчнева, и пусть Дима не отходит далеко от телефона.
Он не отходил. Рука его лежала на корпусе белого аппарата. Звякнуло коротко, потом затрезвонило, и с бьющимся сердцем он поднял трубку. Пауза была долгой, потом зазвучал мужской негромкий далекий голос, его сопровождала музыка − крутили бразильскую хоту.
− Старик, ты меня слышишь? Это я − Виль.
− Слышу.
− Старик, что же ты? Шлешь телеграммы, а сам не едешь?
− Я что-то твой бас не узнаю. Странный какой-то.
− Мне сегодня сорок, старик. Много выпил и говорю другим голосом.
− Совсем забыл. Целую тебя. Я тоже выпил.
− Кыш! − сказал там Борода. − Дайте поговорить с человеком. Старик! Шесть ящиков стоят на складе. Я знаю, ты никогда мне не простишь, если мы их сплавим.
Он замолчал, ждал, как сработает этот ход конем. Дима улыбнулся, представив себе, как Борода, прижавшись к трубке, хитро ждет.
− Да не наваливайтесь! − рявкнул Борода.
Но там уже навалились на него, там шла возня, кряхтенье, визги, выкрики, каждый старался перекричать другого, выхватить трубку. Никто не догадался выключить или хотя бы приглушить магнитофон, и он наяривал хоту.
Изо дня в день они борются со смертью в одиночку, каждый в своем кабинете и когда вылезают из-за своих столов, отрываются от микроскопов, складывают скальпели, то собираются иногда вместе, разряжаются вот так.
− Эти дураки меня чуть не задушили, − сказал Борода, отдуваясь. – Ты слушаешь?
− Что вы там, перепились? Что пьете?
− Всякое. Тебе дать? «Столовой», «старки»? Или «горного дубняка»?
− «Старки».
− Эй, вы, налейте Диме «старки».
− Штрафную! − крикнул кто-то.
Опять послышалась возня, позвякивание посуды, чье-то пьяное бормотанье: «Штрафную, штрафную, штрафную!»
− Твое здоровье, старик. Хоп!
− Хоп! − рявкнули все там и замолкли, выпивая.
Дима прислушивался к далеким звукам, улыбался. Он давно не видел друзей, а теперь слышал их голоса, шум их движения, их дыхания, ясно представлял себе их лица.
− Эту бутылку дайте сюда! − прокричал Борода. − Это Димина бутылка. Дима! Старик! Вот я закупорил «старку». Не выдохнется. Этот пузырь я заначил для тебя.
В кутерьме он не забывал о деле. Позвонил не за тем, чтобы выслушать поздравления. На другом конце провода, за тысячу километров, ждал ответа.
− Борода, прокрути еще раз эту вещь.
− Нравится? Ну, слушай.
Хоту пустили сызнова. Борода, видимо, протянул руку с трубкой к магнитофону, и все звуки поглотила музыка. Плясала, вскрикивала, хлопала в ладоши, веселилась на планете жизнь. Дима прислонился к стене и, забыв обо всем, слушал…
КОНЕЦ
Несовпадение. 13 глава. (Роман М.И. Вайнера, 1981 год)
Широкая спина Оброчнева закрывала изголовье кровати. По другую сторону хлопотала сестра возилась с кислородной подушкой, попик хрипел, дышал часто и поверхностно.
Дима прислонился к спинке кровати. Отец Александр точно почувствовал его присутствие, открыл глаза, узнал его и снова успокоенно закрыл их. Только что за Димой примчалась перепуганная сестра: «Попику плохо! Вас зовет!» Больных попросили из палаты в коридор, они стояли у стены, расстроенные, и смотрели на закрытую дверь.
Оброчнев держал руку на пульсе, следил за выражением лица больного.
− Неожиданный приступ, − сказал он. Стремительно влетела в палату Скопцова. Оброчнев отодвинулся, уступая место. Она озадаченно считала пульс, выпрямилась.
Вид у нее был совершенно растерянный.
− Мокроту отослали на анализ?
Скопцова перегнулась через кровать и посмотрела вниз, Дима тоже взглянул туда; к судну прилипли марлевые салфетки в крови.
− Давно? − спросил она.
− Второй день, − ответил Оброчнев.
Дима отошел к окну. Неужели туберкулез?
Из открытого окна был виден двор. В круглом фонтане вяло бьет струя. Две сестры в белых халатах, о чем-то разговаривая, едят яблоки. Каждая прижимает кулек с яблоками к груди − в буфете появились свежие фрукты. Серебристый тополь шевелит листьями.
На скамье под ним курят «ходячие», в тамбур поликлиники входят и выходят люди.
− Срочно на анализ! − приказала Скопцова.
Оброчнев прошел за ней два шага. Лицо его осунулось.
− Он экзитирует, Антонина Ивановна, − проговорил он глухо.
− Повеситься можно!
И быстро пошла из палаты.
Оброчнев вернулся к кровати, нагнулся, слушая пульс. От строфантина отец Александр успокоился, но дышал часто, в груди хрипело и свистело: начался отек легких.
− Не отходи от него, − сказал Оброчнев сестре и, сгорбленный, медленно зашагал из палаты.
Больные не возвращались. Только сестра сидела у койки с зеленой подушкой, от нее тянулась резиновая трубка с нагубником.
В палате уже распоряжалась смерть. Белые халаты покидали поле боя: ушла Скопцова, за ней − Оброчнев. Уступали место костлявой? Можно уходить и самому.
Осторожно переступая, чтобы не стучать каблуками, Дима двинулся двери.
− Доктор!
Из лиловых, запавших глубоко глазниц − ясный и сердитый взгляд, а на лице уже Гиппократова маска.
Отец Александр занес руку и нетерпеливо оттолкнул ото рта нагубник.
− Доктор, я умираю.
− Ну что вы! Приступ миновал. Сейчас вам будет легче.
Отец Александр сделал жест рукой к тумбочке, где белел фаянсовый поильник с длинным носиком.
− Я уж знаю, кому это дают.
И перевел взгляд в тот угол, где еще недавно лежал умерший от лейкоза.
− Чтоб вам удобней.
Когда врешь вот так, то коробит, будто заперся на замок и сам кричишь из-за запертой двеои, что тебя нет дома.
− Я ж видел, кому ставят этот сосуд.
Дима перегнулся, взял поильник и перенес его на другую тумбочку.
− Не уходите, доктор.
Дима вернулся к окну. Отец Александр закрыл глаза, и снова в палате слышалось хрипенье и бульканье...
− Хоть бы умереть, − проговорил он.
Сестра поднесла ему ко рту нагубник. Минуты две он дышал в него, потом снова нетерпеливым жестом отбросил в сторону, вложил искусанный палец в рот, засосал его, быстро чмокая − так жадно ловит грудь матери голодный младенец. Неожиданно губы раздернулись в гримасе боли, зубы с силой прикусили палец, и из черной щели между ними вырвался хрип.
− Кислород, − крикнул Дима.
Сестра пыталась приставить нагубник ко рту. Потом отложила не нужную больше кислородную подушку и посмотрела на часы.
Дима машинально взглянул на свои – был час и пятнадцать минут.
Слух о смерти Александра Ивановича опередил Диму – в ординаторской про нее уже знали. Растерянные врачи старались занять себя кто чем. Бледный Оброчнев сидел на диване и успокаивал Антонину Ивановну «Ну чего расстраиваться!» У нее не выдержали нервы, она всхлипывала, марая что-то в дневнике, и вытирала платочком уголки рта. Щеки ее пошли пятнами. К больному, когда его ведешь долго, привыкаешь, как к родному, и смерть его, особенно неожиданная, всегда выбивает из равновесия.
Дима посидел на диване рядом с Оброчневым, потом покинул ординаторскую и спустился вниз. Рентгенкабинет был рассвечен, черные шторы сдвинуты к краям, окно распахнуто настежь, в нем гулял свежий ветер. Как ни подавлен был Дима, сердце его радостно екнуло при виде худого человека с крупной головой на тонкой шее, хозяйничавшего в кабинете. Шкаф был раскрыт. Ломов копался в книгах и складывал отобранные в стопки на столе.
− Слава богу, вы приехали − сказал Дима, протягивая руку.
− Приехал, чтобы уехать. − Они обменялись рукопожатиями. − Вот забираю свои книги. Освобождаю вам, милый Дима, жизненное пространство, а сам тю-тю – в Крым, в Симеиз. Договорился о месте санатории. Можно лечить свои тебеце, не бездельничая.
На Ломове была белая рубашка с короткими рукавами, песочного цвета брюки и голубые сандалии; светлый и чистый наряд ещё больше обнажал его худобу и болезнь, выглядел он неважно.
«Переезжает в Крым умирать», − подумал Дима, мысль его тут же метнулась дальше на второй этаж, в бокс изолятора, куда уже, наверное, перенесли тело Александра Ивановича. И он лежит там, накрытый простыней.
− А у нас тут летальный случай, − сказал он.
Ломов скрестил на животе костлявые руки и дважды прокашлялся. Но еще до этого многозначительного кашля, едва слова слетели с губ, Дима почувствовал свою оплошность: получилось, будто поставил смерть в прямую связь с тебеце и напомнил Ломову, что его ждет.
− Вы отлично выглядите, − поспешил он исправить свою оплошность. − Загорели, помолодели.
− Аполлон, одним словом,− усмехнулся Ломов. − Вы верно подметили, Дима, протяну я недолго. Но смерти я не боюсь и умру, надеюсь, с достоинством. Все, что прожито после концлагеря, − подарок... А книжки я все-таки заберу. Там с книгами плохо. Приобретете себе другие.
− Но я тоже!..
− Что тоже?.. Живите просто. Смерть этому учит.
Ломов перевязал книги бинтом, две связки, отнес их на подоконник и направился к дверям.
− Да посидите хоть немного, − сказал Дима.
− Тороплюсь, дел много. Загляните вечером к Бабаяну. Потолкуем без помех. Расскажу вам про Крым, обмозгуем ваше «тоже».
Он вышел из кабинета, и через несколько минут его костлявые руки появились в окне с улицы и легли на связки книг. Дима подбежал к окну, помог снять книги Тяжелые связки, очутившись в руках у Ломова, потянули его вперед, и он пошел, все убыстряя шаг, выставив вперед голову, будто догонял ее.
В такие дни, когда безносая грубо напоминала о себе, само существование, простые его проявления, воспринималось как высшее благо. Казалось, прав, тысячу раз прав Ломов: мчимся куда-то, высунув язык, как будто впереди не смерть. А жить надо просто. И очень важно, очень нужно в такое время побыть с друзьями, среди тех, кого любишь. Локоть к локтю.
Дима собирался на Пушечную. Он открыл дверцу шкафа, снял с деревянных плечиков лавсановую рубашку, чистую, отутюженную.
Мать, точно подстерегала этот момент, влетела в комнату, вырвала ее из рук.
− Не для того стираю, наглаживаю.
Он взглянул на нее скорее с интересом, чем со злостью, вернулся в ванную и надел ношеную.
− Никуда не пойдешь! – предупредила мать.
Как изозлилась вся! Пора бы ей понять: не маленький он, не школьник, а давно взрослый, самостоятельный, живет в другом мире, и ее крючки-приманки – глупая возня, ничего больше. Он привык распоряжаться собой сам и меньше всего намерен считаться с ее глупыми капризами. Он пожал плечами, давая понять, что не принимает ее выходки всерьез. А ее уже занесло.
− Тогда и я пойду с тобой!
Она, видно, давно приготовилась к этому. Вот к чему аккуратный пробор посредине головы, плотно зачесанные волосы и жидкая косичка узлом. Решила увязаться за ним. Совсем не соображает что к чему.
Она не шутила. Ждала с сумкой в руке у дверей.
− То есть как!
− А вот так! Пусть при мне свои чары раскидывает.
− Да ты что! В своем уме!
− Я-то в своем, а ты чужим живешь.
− Хочу видеть, как ты это сделаешь!
− А вот и сделаю.
Даже трудно сердиться. Черт знает что! Его там ждут Ломов, Бабаян, Лиля. Важный разговор. Судьбу перевернуть может, а тут глупость какая-то. Поперек дороги. Пусть бежит, если нравится.
Он отпер дверь и ступил на площадку – мать за ним. Вышел из подъезда – мать за ним. Дошел до угла дома – мать не отстает.
− Мама, иди домой.
− Чего захотел!
Просить ее бессмысленно: чем больше просишь, тем упрямее будет делать наперекор. Сказала «нет» − так уж хоть умри у нее на глазах, на том стоять будет.
Он сжал ей руку выше локтя, подтолкнул к стене дома.
− Что тебе нужно?
− Отпусти руку-то! А то кричать буду. Кричать буду, пусть народ видит, как ты мать обижаешь.
Он разжал пальцы.
− Ну?
− Я тебя к ней не пущу.
− А что тебе?
− Ты на ней не женишься.
− А на ком мне жениться?
− На ком хочешь, только не на ней.
Она смотрела мимо, скулы резко обозначились на широком лице.
− Откуда в тебе столько ненависти? – спросил он.
− Слепой ты! Материнскую любовь за ненависть принимаешь. Вот до чего уж дошло. Слепой, не иначе! А слепому поводырь нужен.
− Ты как же это представляешь, что мы при тебе целоваться будем?
− Так и представляю.
Он повернулся и пошел. Ее шаги раздавались позади. Желание повернуть голову перекосило шею, но он заставил себя не оглядываться.
Перешел улицу и направился к тополевому бульвару.
Долго мать будет ходить за ним? Ведь на самом деле привяжется, втиснется между ним и Лилей. С нее это станется. Что ей нужно?
Он сел на скамью с желто-красными рейками.
Мать опустилась рядом. Сидела, высоко держа голову, смотрела вдаль. Ни просьбы, ни ругань, ни мольбы − ничего не проймет.
Он откинулся на спинку скамьи. Над ним высоко на тополе кричали грачи.
Так что делать? Что ей нужно? Ведь не требует он от нее, чтоб жила по-другому. Он ведь терпит. Почему она не может? Почему ей кажется, что иная жизнь, жизнь его, Лили, угрожает ей? Почему тащит в свой мир? Как от нее отвязаться? Броситься бежать, махнуть через ограду, чтоб опомниться не успела и визг не подняла? Так для этого акробатическая ловкость нужна.
− Долго ты будешь за мной ходить?
− А у меня времени много.
Он выпрямился, вздохнул, посмотрел на часы.
− Ты на часы не гляди. Заждется она тебя нынче.
Да что же это такое? Что за нелепость, дичь какая-то?! Господи боже мой, вот он сидит, взрослый человек, его ждет любимая женщина, самая близкая душа на земле, а родная мать виснет на нем камнем. Какое у нее право распоряжаться его жизнью? Да что на нее смотреть − пусть орет.
− Сын, − проговорила она. − Или я не для тебя стараюсь?
− Не делай мне хорошо! − закричал он, в бешенстве вскакивая на ноги. − Единственное, о чем прошу! Не делай мне хорошо.
И зашагал по кирпичной дорожке прочь.
Он увидел далеко такси с зеленым фонариком. Как зверь, рассчитывая каждое движение, ждал, потом быстро метнулся через ограду. Заскрежетали тормоза Дима рванул на себя дверцу, кинулся на сиденье и, когда машина набрала скорость, облегченно вздохнул.
По ту сторону, у самой воды, горел костер темно-красные искры летели в реку, мелькали две тени ночных рыболовов − взрослого и мальчика, устраивающихся на ночь.
− Я не знаю, каким видишь меня ты − говорил Дима. − Может быть, я кажусь тебе сильным, а я не гений, не супермен. Я рядовой врач. Единственное, что я ценю в себе − это желание, чтобы люди жили хорошо, по-умному. Это нужно для меня самого, я счастлив только среди хороших и умных людей.
Он пришел вскоре после Ломова, мрачный, расстроенный этой смертью в больнице, смертью священника, в которой почему-то обвинял себя. Очевидно, у него такая потребность сегодня: пройти через самоуничижение.
Лиля нашарила возле себя камушек, швырнула его в темноту, и он упал посредине реки.
Ее поездка в Обнинск − скорее от отчаяния, чем в предвидении чего-то реального − оказалась не зряшной. Как ни странно, а Диму там помнят и готовы взять его. И ее тоже, И квартиру сулят в течение года. О таком везении можно только мечтать − зацепиться в подобном научном центре. Для Димы лучше не придумать. И Москва – рукой подать. Она обо всем договорилась, выторговала даже два месяца на сборы и переезд, а пришел старый Ломов и все спутал. Весь вечер они вчетвером толкли воду в ступе и так ни к чему не пришли. От Обнинска Дима просто отмахнулся, но и не бунтовал, не твердил упрямо, что вернется в Кевду. Что-то в нем произошло, какой-то поворот, и она не могла еще себе объяснить этого. Дима слушал и вроде бы соглашался с доводами отца и Ломова что теперь у него руки развязаны, что в больнице работы для рентгенолога непочатый край. Потом, когда они пошли вдвоем на берег реки, он мучился мыслью, что его могли не так понять: будто он согласен тут остаться.
− Не изводи себя, мой доктор Хиросима, − сказала она.
− Я не извожусь. Я не могу доказывать Антонине Ивановне, моей матери или Оброчневу вещи, которые уже тысячелетия являются аксиомой. Я даже не знаю, как их надо доказывать. И что странно − я обнаружил в себе центр склочного возбуждения. Завожусь, не ответить ли подлостью на подлость.
− Как же ты хочешь? Тебе наступают на ногу, а ты должен говорить: «Ах, извините!» Ты, доктор Хиросима?
− Чем же мы тогда лучше?
− С нахалами нужно бороться их же оружием.
− Каким оружием? Я не хочу тратить на это силы.
− Давай уедем, доктор Хиросима, давай уедем в Обнинск. К умным и хорошим людям. Ты будешь счастлив. И я с тобой. Я тоже такая, не могу быть счастливой, если другие мучаются. Уедем, доктор Хиросима.
Она произносила его кевдинское прозвище на все лады, и оно не пугало ее. Она никому о том не говорила, но прозвище это сначала вонзило в нее железный крючок и подтягивало к себе как жертву. Она упиралась, а оно было сильней. И вот сегодня тут, на реке, оно почувствовала свободу, крючок ее больше не держит, а магическая сила, заключенная в «докторе Хиросиме», испарилась.
Лиля нашарила другой камушек, швырнула его в темноту, и с середины реки послышалось чмоканье воды.
− Давай уедем, − предложила она великодушно. Уедем.
Дима донес светлое настроение до дверей своей квартиры. Ему казалось кощунственным предаваться сегодня любви − так мучило чувство вины за смерть Александра Ивановича. И мечтать о новой жизни в Обнинске, радоваться, как повезло, не мог. Не поедет он туда, а сказать прямо, разочаровать и обидеть Лилю не хотел. Еще несколько дней назад, когда по телеграфу запретил продавать аппарат, его решение вернуться в Кевду выглядело твердым и бесповоротным, а эта смерть сбила его с толку. Ах, подлая, так обвести вокруг пальца! А он считал себя способным до того, как она снимет маску, узнать ее поступь и предупредить тех, к кому она подкрадывается. Ведь сразу угадал ее у Горшковой, крохотную опухоль в бронхе. И в других. Но даже сто спасенных не возмещают одной потери.
Он не противоречил Лиле, не разрушал ее планов. Ее живое дыхание, всплески на середине реки, когда туда падал брошенный камень, огонь костра по ту сторону, темные силуэты ветел успокаивали. Так хотелось, чтобы кто-то в мире был уверен в себе и знал, что делать.
Он вложил ключ в замочную скважину, повернул его, толкнул дверь, она не подалась. Была заперта изнутри на задвижку. Он вспомнил безобразную сцену с матерью на бульваре.
Хотелось в постель, лежать, прислушиваться к светлому настроению, возникшему у реки. Он готов извиниться перед матерью. Она не виновата, что в больнице умирают.
Нажал кнопку звонка.
В квартире проскрипели пружины кровати − мать встала и прошлепала к двери.
− Кто?
− Это я, мама.
− Зачем пришел?
Он пожал плечами.
− Иди, откуда пришел.
Он не сердился. Ждал перед дверью, пока мать откроет, − его не злило, что она хочет проучить его за бегство с бульвара.
− Открой же.
Она не отзывалась, хотя не уходила, стояла там и прислушивалась.
Он отступил, уселся на ступени тут же, на лестничной площадке. Удивлялся, что его не пускают домой. Смешно. Просто смешно. Что же, ему на улице ночевать?.. Ну и хорошо, что домой не пускают.
Он поднялся, спустился по ступеням, и когда вышел из подъезда, на лестничной площадке стукнула дверь – мать не выдержала: проверяет, не ушел ли на самом деле.
Завернул за угол, остановился на скате холма. Внизу лежал город. На большой черной плоскости сверкала беспорядочная частая россыпь огней. Они мигали беспрестанно, и чем дольше он смотрел на них, тем больше ему казалось, что это мигание разумно: между фонарями, как мысли, проносились черные молнии; во всей этой россыпи огней, мигающих, пульсирующих, как в обнаженном мозге, совершалась огромная работа, важная, нужная, мудрая.
Несовпадение. 12 глава. (Роман М.И. Вайнера, 1981 год)
Попыхивала сигнальная лампочка радиотелефона. Бабаян нажимал клавиши, соединялся, спрашивал, распоряжался − восторженный мальчик, которому досталась забавная игрушка. Белый колпак, надвинутый на самые брови, скрывал ранение на лбу, но делал лицо круглым, простоватым.
Он переполошился всего лишь на минуту: «Что-нибудь случилось?» Услышав, что Дима заглянул просто так, узнать, нет ли новостей от Лили, успокоился и стал хвастать: уже монтируют радиостанцию, теперь связь с каждой машиной обеспечена и можно консультировать, в случае надобности, выездного врача.
Дима порядком промок под дождем. Он сидел в кресле. При движении вода, накопившаяся в коротких волосах, струйками бежала за шиворот. В хирургической он был впервые. На стене, позади Бабаяна, прикноплена огромная, как простыня, синька − план города, а на боковой − архитектурный проект больницы.
Бабаян оставил в покое аппарат, пересел на стул, рядом с креслом, оказался намного выше, и Дима едва сдержал желание встать.
После отъезда Бороды Лиля тут же подала заявление на развод со своим ереванским супругом, взяла отпуск без сохранения содержания и умчалась в Москву. Дима ходил без нее, как потерянный.
Бабаян нагнулся, принялся застегивать пуговицу на Диминой рубашке. Он сидел слева, ему было не с руки, и пальцы неуклюже тыкались в ключицы. Нежности за ним раньше не водились.
Он кое-как застегнул пуговицу; нависая, заглядывая Диме в глаза − все время чего-то ждал, какого-то откровенного разговора. Их роман с Лилей он принял как свершившийся факт. Рад он или огорчен − того не показывал. «Папа сказал, если хочешь можешь перебраться к нам». Она передала это как бы между прочим давно, а он не перебирался Лиля больше не заикалась об этом, а Бабаян явно тревожился, ждал объяснении.
Никак не приноровятся друг к другу Их отношения остаются добрыми, да в них произошло какое-то незаметное смещение; родственная близость не возникла − прозевали очевидно, момент, − а к прежней, дружеской, невозможно вернуться без откровенного разговора. Он не получался. Он уже был, и много раз, еще до Лили. Что выяснять? Все известно: взгляды, вкусы, настроения, профессиональный уровень. Разговоры возникали всегда естественно, этим были приятны. Специальный разговор на откровенность таит в себе столько фальши, что при одной мысли о нем становилось тоскливо. Он необходим, а ему никак не состояться.
Все это доказательно и серьезно, пока об этом думается, и смешно, едва обретает язык. Даже неловко. А переступить через это − значит покривить душой. Фальшь не нужна ни ему, ни Бабаяну. Не такие они люди. Лучше доброжелательная вежливость.
Бабаян это тоже чувствовал, тем не менее ждал объяснений, а Дима их не хотел.
− Зря вы это затеяли с переездом, − сказал Бабаян. − Построим терапевтический, могли бы взять на себя рентгено-радиологию.
Дима промолчал. Не мог признаться, что никакое предложение, самое замечательное, ни здесь, ни в Москве, его уже не устраивает. В кармане у него лежало письмо. Отпечатанное на специальном бланке и подписанное главным механиком кевдинского завода. Получил третьего дня. Прочтя, пришел в бешенство и помчался на телеграф. «Не продавать ни в коем случае!» Дураки, для того ли старались, чтобы продать!
Главмех просил подтвердить необходимость установки аппарата ТУР-Д-1001. И. о. начальника рентгенслужбы Стариков отказывался, полагая, что имеющегося оборудования вполне достаточно для объема работ, предусмотренного для заводской санчасти. Если доктор Кичатов не внесет ясность, завод будет искать покупателя, ибо держать мертвым капиталом тридцать пять тысяч рублей никто не позволит. Не исключено ведь, что при установке придется вызвать шеф-монтажника из ГДР, а это еще и новые расходы...
Дима не ожидал, что способен так психовать. Болван Стариков! Откуда он выискался? Откуда ему известен объем работы? Несчастный раб. Заучил: что можно Юпитеру, то нельзя быку. Природа и так ограничивает наши возможности, а тут приходит болван и проводит черту: до сих.
Расстроила не угроза продать аппарат − не решатся, не продадут. Поразила эта идиотская фраза про объем работы. Два канцелярских слова зачеркнули десять лет труда и угрожали его жизни. Споры о судьбе практикующего врача, об опасности морально устареть заставляли всех в Кевде тянуть себя за волосы, бежать от такой опасности. Диме везло более, чем другим. В Обнинск он имел доступ к исследованиям, сулившим переворот в диагностике, и свою работу планировал в предвидении того времени, когда новые методы перейдут из лабораторий в клинику. Они, молодые врачи, стартовали на пустом месте. С большой форой. Дали открывались перед ними необозримые.
И даже ТУР, хотя без него никак не обойтись, скорее доведенный до совершенства инструмент старого метода, чем новшество. Принципиально новое в диагностику несут меченые атомы. В больничном корпусе, что будет готов через год, три комнаты запланированы под радиологическую лабораторию. При их отделке нужно присутствовать самому, ничего не упустить, даже за составом штукатурки проследить, ибо она должна быть специальная, баритовая, а строителям неясна разница между ней и обычной. Нужно продумать системы вентиляции и прокладку кабелей и ничего потом не переделывать. Надо загодя подготовить врача-радиолога, подыскать инженера и толковых техников, кому можно доверить сложнейшее оборудование. И вот явился человек ограниченный и отмахивается от всего, от завтрашнего дня.
Ради легкой, нехлопотной жизни. Посмотреть бы на него, этого Старикова, спросить, что это за «объем работы».
У этого Старикова все может пойти прахом, а издалека не спасти, не вмешаться.
Ничего этого Дима не мог сказать Бабаяну. А Лиля как в воду канула. Куда ей звонить? Куда телеграфировать, чтобы не бегала и не хлопотала, а вернулась скорее?
− Лиля могла бы позвонить, − сказал он.
− Приедет, расскажет.
Дима поднялся, вода струйками ринулась за шиворот.
− Есть у вас носовой платок?
Своего не было: грязный мать выгребла стирать, а свежего не положила.
Бабаян полез в карман халата, достал широкий бинт, кинул его ловко с руки на руку, − разматываясь, он кувыркался, − оторвал кусок и протянул Диме. Он оторвал и себе − сложил в несколько слоев. Бабаян шумно сморкался, и в его голубых глазах засветилось веселье.
Дима вытирал шею и чувствовал, что и ему улыбка начинает согревать глаза.
Он сунул бинт в карман.
− Пойдемте, покажу больницу, раз вы уж здесь, − предложил Бабаян. Он не терял надежды заинтересовать Диму.
На втором этаже по коридору в кресле-каталке ехала Горшкова. Лицо у нее после операции было прозрачное, анемичное, а глаза светились необыкновенно, как у человека, побывавшего на том свете, − она выздоравливала. Он обрадовался, и, когда поздоровался, Горшкова остановила кресло-каталку.
Горшкова его не узнала, принимала за здешнего врача. А напомнить, кто он, почему ею интересуется и так рад ей, было неловко Он все ждал, что узнает, да вдруг сообразил что она скорее всего и не узнает: ведь видела его больше в темноте, смутную белую фигуру.
− Ну, поправляйтесь, − сказал он и пошел догонять будущего тестя.
Речка Кошавка − наверно, самая короткая в мире тянется полтора километра по каменному оврагу. В центре города овраг забетонирован, обнесен чугунной решеткой, а в одном месте над ним сооружено модерновое кафе «Аквариум».
От дождя, не по-летнему затяжного и мелкого, тополя вдоль тротуаров ненадолго обрели свежесть, блестел чисто отмытый асфальт, сверкали зонтики и плащи-болоньи.
Дима сидел за столиком у прозрачной стены, на уровне его глаз по синей изломанной волне неслась красная ромбовидная рыбка. Водка стояла перед ним в рюмке не выпитая. Пустые тарелки, куча окурков в пепельнице да отодвинутые стулья напоминали, что недавно тут сидел Лешка Сысуев и два приятеля. Лешка подвернулся под руку случайно, и Дима позвал его и приятелей поужинать на его счет. Иногда у него появлялась потребность растранжирить деньги.
Его приступы мотовства приводили Юльку в восторг, а ему самому не всегда понятны. После них наступает облегченье, будто расплатился за старый долг. Его щепетильность, как и приступы расточительства ставят его часто в смешное положение, но ничего не может с собой поделать. Видимо, это запоздалая реакция на одно событие из его детства. Диму, четырнадцатилетнего, отец взял с собой в командировку − проверял тогда, как заготавливаются грибы и прочий «дикорастущие продукты». Обедом их кормили в одном магазине в складском помещении позади торгового зала, на каких-то ящиках. Продавцы выставили две бутылки водки. Отца потом провожали, за обед он забыл заплатить, а Дима ловил момент напомнить ему и сумел это сделать только возле машины. Отец расхохотался, потом объяснил:
− Не переживай. Не разорятся. У них гостевой фонд имеется.
Дима ему не поверил. Он догадался, что за даровое угощение, за колбасу, за хлеб и водку заплатят продавцы и потом, чтобы возместить расход, будут жульничать, обвешивать покупателей.
А в студенческие годы появилась щепетильность и приступы мотовства. И облегчение после них, будто вернул часть нечестно взятого отцом.
В открытую над головой фрамугу с улицы тянуло свежестью, бегущая под полом Кошавка проволакивала по дну оврага камень со звуком гулким, как от пустого тела.
Дима курил, с легкой душой поглядывал вокруг, а мыслями перенесся в Кевду. Безучастие Нины Хайрулиной непонятно. Умный и толковый врач, уж она-то знает возможности ТУРа, а не отстояла его.
Стариков − человек пришлый, случайный, ему все равно. Сел на готовенькое, и лучшего не надо. Специалист «с ограниченным объемом работы». Есть ли что страшнее? А Нина чего испугалась? Одна не потянет? Неужели правду тогда сказал Борода − перестала делать и те рентгеновские исследования, на какие решалась при Диме? А Борода просто спятил: гудел, гудел, мотался по Москве, погрузил ТУР, а теперь упускает его.
Дима вдруг улыбнулся: да ведь это же ход конем, хитрый расчет − письмо заденет Диму за живое, он завопит, как резаный, вцепится в свой ТУР, никому не отдаст и возьмет на себя ответственность за его судьбу. Поблефовали, а он попался. Отбил телеграмму. Поторопился. Надо было дождаться Лили. Не следовало ее вообще отпускать, обманывать и ее и себя − толковать всерьез о том, что готов переехать в Москву. Вернее, в Обнинск, в НИИ, − обосноваться, так только там. Лиля пробивная, а все окажется ни к чему.
Смерть первой жены пришибла его, но с тех пор боль отпустила, затихла, а сердце наполнилось новой страстью. Дима удивлялся, как мог жить так скучно, прозябать целый год, словно во сне. Очнувшись, он только и думал, что о Кевде, о возвращении. Как ни верти, как ни раскладывай, а выходит одно: все, что суждено ему сделать хорошего и полезного на своем веку, связано с одним-единственным местом, и место это − Кевда. Лиля же про него и слышать не хочет. «Если твой лучший друг чуть не бросился на меня с кулаками, что тогда говорить про остальных!» И возразить нечего было. Юлька начинала на пустом месте, а первых, «основоположников», не забывают, не заменяют.
Что же делать? Сгоряча он отбил телеграмму, запретил продавать аппарат. Выходит, надо ехать его монтировать? А уж если он туда поедет... Тогда затянет его. Как же быть с Лилей? Как убедить ее, что и ей там не будет плохо? Кто ей дурное слово скажет? Что за ерунда? Там свои ребята. Никто не вправе требовать от него, чтобы он ковылял до конца жизни один. Нет, конечно, правильно, что дал телеграмму.
Мысли его постепенно перенеслись в кевдинский стационар, в его кабинет.
Он развернул перед собой бумажную салфетку, разгладил ее, достал ручку и принялся набрасывать на салфетке монтажную схему − позиции аппарата, трансформатора, пульта, столов, креплений. И не заметил, как за окном, стемнело. От соседнего столика к нему перебрался какой-то алкаш.
− Ты, гляжу, водки не пьешь. Не идет, что ль?
− Не идет.
− А ты ее не пей. Она − яд. Тьфу на нее, на водку.
− Я и не пью.
− И правильно делаешь. Сердцу, легким от нее − хана. Я, как домой приду, пить не буду. Ну ее! Давай напоследок по одной тяпнем. Выпьем − и не будем.
− Не хочу.
− Ты что, чумной? Сказал: сам не буду. А одну − напоследок!
Дима подозвал официантку, расплатился и вышел в темноту, под дождь, постоял у чугунной решетки, слушая, как шумит внизу Кошавка, поднял воротник и зашагал домой,
На вешалке топорщился прозрачный пластиковый дождевик, а под ним на крашеных половицах стояла прозрачная лужица Опять Тамара! Каждый божий день. Неделю подряд. Хоть не приходи домой. Никак мать не поймет, что зря это. Приводит еще каких-то продавщиц из гастронома, учительниц, никто из них не заикается, зачем пожаловали, да все знают, что это смотрины, держат себя фальшиво и натянуто. А он отсиживал свое за столом, чтобы предотвратить скандал, проклиная себя, что обучен вежливости.
Сейчас они ужинали. На столе среди посуды высилась большая литровая бутылка с красным вином.
Когда он вошел, Тамара, хорошенькая, в желтой кофте и черной юбке, повернула лицо, ее мечтательные глаза смотрели на Диму.
− Где это ты так промок? − встретила его мать. − Помоги ему, − подсказала она гостье.
Тамара проворно вскочила, и в руках у нее оказалось мохнатое полотенце; она держала его за край, пока Дима сушил им голову.
Потом, пока расшнуровывал ботинок, Тамара сбегала в прихожую, принесла тапки, поставила их рядом перед ним, точно выполнила заданную ей наперед программу, может быть, чуточку больше. Волосы на голове у нее были закручены в аккуратные трубки, наверное сутки не снимала бигуди. На висках кожа поблескивала восково, как на муляже.
− Где так поздно бродишь в такую непогоду? − спросила она в тон матери и снова уселась за стол.
Заботливо, по-хозяйски пододвинула к нему тарелки со студнем, салатом, помидорами, нарезанными четвертинками, полный стакан красного вина.
− Отгадай, откуда вино.
− Из магазина.
− Вот и не отгадал! Я одному приезжему грузину снимок сделала, так это он подарил. Целый бочонок. Вот такой!
Она показала руками, как выглядит бочонок, а Дима живо представил его себе: овально сплюснутый в боках, деревянный, литров на шесть.
− Я отказывалась, отказывалась, а он обиделся – «зарежусь». Пришлось взять.
− Не обеднял, чай, − сказала мать. – Свое вернет, грузины – народ энергичный.
− Этот, по-моему, очень хороший человек, − сказала Тамара.− Смешной такой, по-моему, инженер.
− Инженер! Сказала. Инженеры бочками вино не дарят. Уж я-то лучше знаю.
− Смени пластинку, −сказал Дима.
− Неужели я в своем доме говорить не могу, что хочу? Ты мне рот не затыкай! Или правду тебе неприятно слышать? А ты слушай!
Откуда у нее столько ненависти? Все ее раздражает, всеми она недовольна − татарами, грузинами, армянами.
− Кончай, − сказал он ещё раз.
Бросил есть и ушел к себе в комнату. Тамара обиделась, собралась домой.
− Пошел бы проводил, что ли! − крикнула мать.
Ах, чтоб тебя! Долго ли это еще будет?
Ну, мать тупа, как сибирский валенок. Тамара должна бы понять. Чего ходить? На что надеется? Надо с ней потолковать по-мужски.
Он ринулся в прихожую, влез в отцовские туфли, накинул на себя отцовский синий плащ. Тамара в прозрачной косынке на кудрях, в шуршащем дождевике была похожа на желто-черную бабочку.
До остановки они шагали молча. На остановке Тамара все время собиралась что-то сказать потом, чувствуя, что вот-вот появится автобус, решилась в открытую:
− Дима, если тебе с образованием нужна, я учиться буду. Честное слово, буду.
− Ну, что ты!
− Возьми меня с испытательным сроком.
Что лепечет!
− Меня будут судить за двоеженство.
Шутки до нее не доходили.
− Не говори, не говори. Не может она тебя любить, не может. Никто не может, как я!
Она придвинулась близко, дождевик ломко потрескивал, шуршал, мешал.
− Делай со мной что хочешь, проси что хочешь. Ну, чем я тебя обидела? Чем? Ведь ты меня любишь. Я ж поняла, зачем тогда пришел. А почему убежал, не понимаю. На работе кричишь. Что я тебе сделала?
− Да ничего.
Показался автобус, сворачивал к остановке.
− Едем ко мне, едем!
Автобус притормозил, открылись створчатые двери.
− Давай езжай.
Он легко подсадил ее на подножку, двери закрылись, автобус умчался.
На мокром асфальте цветными пятнами отражались неоновые рекламы.
Несовпадение. 11 глава. (Роман М.И. Вайнера, 1981 год)
В кабинете было тихо и темно. На негатоскопе два снимка грудной клетки Александра Ивановича. Один давний, с воздухом в плевре, второй сделан сегодня утром. На этом снимке уже светлеет легочное поле, все очистилось, жидкости почти нет.
Можно бы радоваться: наконец-то болезнь сломлена. Но в среднем поле легкого, прямо в центре, взошла круглая тень, неожиданная и зловещая.
Дима положил локти на стол, зажал голову в ладонях. Каждый раз при взгляде на этот светлый кружок у него холодело внутри. Как понимать эту тень? Откуда она взялась? Ее ж не было. На первом снимке среди полостей жидкости, в том месте, где сейчас светлый шар, нет даже намека на него. Свежая новая тень. Где-то возле задней стенки грудной клетки. Или ближе? Похоже на туберкулему. Края четки и спокойны, легочная ткань вокруг не воспалена. Откуда?
Он перебрал в памяти все, что знал, отвергая одно за другим. Было еще одно предположение, но едва он хотел оформить его в мысль, что-то замыкалось.
Он сжимал ладонями голову, не давал, этой тени слова. Пока она безъязыка, безымянна, можно только гадать о ее значении. Ему не хотелось оставаться с нею один на один.
− Тамара, − попросил он в темноту. − Позовите Скопцову.
Щелкнула замком дверь. Через минуту Тамара вернулась.
− Если тебе нужно, иди к ней сам, так она сказала. Там все липнут к твоему другу. Вот это мужик!
Диме обдало теплом сердце: нешто пойти, взглянуть на его морду и успокоиться? Борода. Вилька Рокотов. Ввалился ночью, всех перебудил. Сделал крюк из Москвы и удивился, что Дима не ждет на чемодане.
Он прихватил снимок и отправился в ординаторскую. Еще в коридоре услышал Вилькин бас и высокие голоса женщин. Войдя, остановился возле дверей. Борода был в своем репертуаре. Врачи кто где держали перед собой раскрытые истории болезни, а ничего не записывали. На их лицах, обращенных к гостю, сияла готовность смеяться. Белый халат, короткий и тесный, чуть не лопался на мощных плечах Рокотова. Его борода, окладистая, длинная, курчавая и черная, как у библейского пророка, закрывала полгруди. Таких бород, считал он, по всей стране десять, не больше, и нянчился он с ней, как с ребенком. В карих глазах его дрожал смех. Он сидел на диване между начмедом и ординатором Желтиковой и рассказывал старую байку о том, как столкнулся однажды в Москве с одним нахальным типом. Они вцепились друг другу в бороды, сопели, щупали, катали между пальцев − какая, дескать, волна, − все молча. И, лишь расходясь, крикнули одновременно: «А у меня борода лучше!»
В ординаторской смеялись. Громче всех, закинув голову так, что был виден кадык и розовая пасть в бороде, гоготал сам Рокотов.
О главном, о своей книге, за которую ему без защиты дали кандидата, он сообщил, как о пустяке: «Я показал ее Хвастунову, тот сказал: «Блестяще». Блестяще так блестяще − я не возражаю».
С утра Диму он от себя не отпускал, поперся с ним на работу, осмотрел кабинет, облазил все отделения, перезнакомился с врачами, перепугал своей бородой сестричек, принявших его за инспектора из Минздрава.
К полудню он имел довольно точное представление о больнице Семашко − в восторг она его не привела. Но к себе он расположил всех.
− А теперь вы расскажите, расскажите. Про Вену-то. Татьяна Осиповна! − закричала ординатор Желтикова. Будто в «Клубе веселых и находчивых» выдвигала Рытову в капитаны своей команды. − Татьяна Осиповна у нас войну майором кончила. Всю Европу прошла. Орденов и медалей у нее! Груди не хватает. Даже французский есть. Расскажите, расскажите! Про Вену-то! Про австрияков!
Рытова отнекивалась, а на белом и круглом лице ее ярче проступил румянец, она внутренне изготовилась рассказывать, да мешкала, вспоминая эпизод позабавней.
Пока ее осаждали и уламывали, Дима перешел к Скопцовой и положил перед ней снимок.
− Это чей? − опросила она, все еще смеясь.
− Александра Ивановича.
Он видел по глазам, что она не понимает, о ком речь. Имя-отчество больного она узнавала у постели от ординатора на обходе, делала вид, что знает его давно, и произносила часто. («Это дает психотерапевтический эффект, − поучала она на совещаниях.− Больной чувствует внимание и проникается доверием к врачу».)
− Это кто, Александр Иванович? Кто-нибудь из начальства?
− Почти.
− Я не могу помнить всех.
− Попик же.
Она повернулась к окну, поднесла на свет снимок и стала разглядывать. Все эти дни у больного не скакала температура. Дима не чувствовал раздражения против веселья Скопцовой, точно это раздражение исходило только от нее, создавая напряженность. И сейчас, глядя на ее красивое лицо, он думал, что нет ничего страшного, что она действительно имеет право быть такой веселой.
− Великолепно, − сказала она. − Все очистилось. Через неделю мы его выпишем.
Он пригнулся и молча обвел пальцем тень в средней доле легкого.
− Чепуха! − сказала она. − Рассосется. Это остатки пневмонии.
− Для меня это полная неожиданность,− признался он.
− Ну говорите, что это? Вы согласны, что це-эр исключается? В клинике нет даже намека на него. Тогда − что это?
− Не знаю. Похоже на туберкулему.
− Хорошо. Проверим.
Она точно ублажала его, капризного и неразумного, готова была сделать все, что ему хотелось, лишь бы не переживал, не принимал все это так близко к сердцу.
− Я бы сделал томограмму, да томографа нет, − сказал он
− Что ж попусту вздыхать... Подождите, дайте послушать.
Дима покорно ждал посреди комнаты с пленкой в руке. Действительно, остается только вздыхать. Хуже нет, когда безоружен.
У всех такое веселое, распрекрасное настроение, а он приперся со своим снимком, со своими подозрениями, и так некстати, и так не вовремя. Скопцова повернулась к дивану слушать про Вену, про австрияков, про Европу, куда собиралась в туристическую поездку. Рытова, хотя ее оглушали голоса и просьбы рассказать про войну, хотя сама ворошила свою память, держала ухо востро, и Димино замечание про туберкулему стерло с ее радушного лица улыбку.
− Надо бы послать мокроту на анализ,− сказала она.
− Хорошо. Проверим, − ответила Скопцова сердито. Она ревниво оберегала свою профессиональную независимость и не терпела диктата. − Можно хоть пять минут отдохнуть от болезней? Расскажите про Вену, я ведь туда собираюсь.
У Рытовой уже прошла охота рассказывать. Дима воспользовался паузой.
− Пойдем, Борода.
Его стали стыдить и прогонять, а гостя − уговаривать побыть еще. Борода растрезвонил по всей больнице, за чем приехал, расписывал необыкновенную Димину одаренность, и странно − ему поверили. По тому благожелательству, с каким Диму стыдили и прогоняли, он почувствовал, что отношение к нему резко изменилось, потеплело, будто он действительно человек особый, только по каким- то причинам держался инкогнито, а теперь это обнаружилось и всех радует.
Рокотов в любой, самой развеселой кутерьме мог услышать как человеку худо. На Димин голос он отреагировал мгновенно. К тому же он уловил, что Рытова передумала рассказывать про Вену, а уговоры ради него, чем дальше и настойчивей будут, только создадут неловкость и испортят всем настроение.
Он поднялся, пообещал – железно! – заглянуть еще раз, и вывалился из ординаторской.
− Все как нельзя лучше! – подытожил доктор Бабаян, рассказав про операцию у Горшковой. – Трудно, конечно сказать, сколько она протянет. Рак есть рак. Кто может предусмотреть его поведение? Хорошо еще вы, Дима, вовремя его засекли. В самое время!
− Хвалите его больше, − буркнул Рокотов. − А он тут оржавел.
Лиля, держа сплетенные руки на плече возлюбленного своего, уткнулась в них подбородком; при последних словах отца она с благодарным чувством взглянула на него. Она побаивалась гостя, этого огромного, бородатого человека, который до сегодня был лишь приятным звуком в Диминых рассказах. Диме очень хотелось познакомить ее с другом. Может, показать ее? Ей предстояла проверка по каким-то образцам? Мысль эта ее возмущала, но она, не колеблясь, согласилась принять гостя и постаралась приготовить все, как положено в таких случаях. Гость несколько раз обратился к Диме, назвав его доктором Хиросимой. Это прозвище она слышала впервые, оно очень шло к Диме, возвысило его, но обладало притяжением, как магнит. С той минуты, что услышала прозвище и ощутила это притяжение, она сопротивлялась всему, что за этим прозвищем крылось. А гость был не из скромных. «Пусть не заносится − «оржавел», − протестовала она про себя. − Дима здесь кое-что делает. Его уважают и ценят». Она его не отдаст, не отпустит. Нарочно будет прижиматься, держать на его плече голову, нюхать его волосы, − пусть Борода сердится, отводит глаза. Они помнят другое, эти глаза, но ничего, пусть привыкают.
А он отмалчивался, ее доктор Хиросима, улыбался. Ее нежность приятна ему − она же видит. Стоит ей сделать движение, он поворачивает голову и взглядом просит не отстраняться. Все так славно, а ее гложет беспокойство. Какой он там был доктор Хиросима? Его не всегда поймешь. Сидит и улыбается, кивает головой, а его отвлекает что-то, какая-то занозистая мысль, и она не может отгадать. В такую минуту, когда хочется быть единым телом и одной душой, она не чувствует его своим до конца. А о том, что за этим прозвищем, за доктором Хиросимой, лучше и не думать.
Отец с книгой Рокотова, только что подаренной, пересел в шезлонг.
Они остались за столом втроем. Рокотов в первый раз за весь вечер посмотрел ей прямо в глаза.
− Вы меня не боитесь?
− Нет.
Тогда вдолбите в его дурацкую башку, что предательство - не самое лучшее под луной.
Рокотов рассчитывал, что Дима сидит на чемодане и ждет его, а оказалось не так Из- за Лили дело осложнилось еще более. Теперь он решил действовать черев нее. Обвинение в предательстве Дима отвел спокойно, без обиды:
− Нина Хайрулина не хуже меня.
− Она перестала делать даже то, что могла при твоей страховке!
Дима ничего не ответил и ушел в себя.
Рокотов нагнулся к графину, разлил вино по рюмкам.
Еще до того, как услышала прозвище «доктор Хиросима», она думала о переезде в Кевду. Совершенно ясно: надо что-то решать, Скоро выйдет из отпуска Виктор Борисович, Диме придется вернуться в поликлинику, просвечивать грудные клетки, а он рвется к серьезной работе. Ждать, пока Ломов уйдет на пенсию?
В Кевде ее Димка − доктор Хиросима. Там он не такой, как здесь, и вдруг она его потеряет? И что тогда будет с ней?
− Слушайте, я должен веселиться. Я буду петь. Когда махну рукой, кричите хором: «Мало!» Усекли? Это песня туристов. − Рокотов заревел сразу же на мотив «варяжского гостя»:
− В пещере каменной нашли пол-литра водки,
Цыпленок жареный валялся рядом с ней.
Он махнул рукой, и Дима сказал:
− Мало.
− Долго писали ее? − спросил отец со своего места, показывая на книгу.
− Четыре года. По ночам. Днем некогда. Надо же чем-то заниматься, а то скучно.
Рокотов не кокетничал. Это такая манера − говорить походя о главном, как о неважном. За книгу о лейкозах ему присвоили кандидата, а он прикидывался простачком − от скуки-де писал.
− В пещере каменной нашли бочонок водки,
Теленок жареный валялся рядом с ним.
Он снова махнул рукой, но когда Дима промямлил: «Мало», не стал продолжать, а впился глазами в Лилю, застыл с широко разинутым ртом, и тогда, чтобы не обидеть его, она крикнула: «Мало!»
− В пещере каменной нашли источник водки,
И стадо мамонтов валялось рядом с ним.
− Хватит? Хватит. Слушайте, квартиру я вам вытряхну в два счета. Как минимум, две комнаты. Если нет, отрежете мне бороду.
− Я плохо переношу ветер, − сказала Лиля.
Дима слабо улыбнулся.
Эта улыбка разозлила гостя.
− Старик, − сказал он. − Я понимаю, что придется внести поправку на ветер. Но хоть ты и доктор Хиросима, на аркане я тебя не потащу. Дело добровольное. Ты заварил, нам кашу с ТУРом, ты нам ее и расхлебывай.
− Расхлебаю, только потерпи чуть.
− Мы тебя сколько ждем домой! А ты все тянешь.
Дима перестал улыбаться, приподнял голову, и тогда Борода потупился.
Лилю полоснуло по сердцу слово «домой». Дима не запротестовал, не сказал, что его дом здесь. Что же будет с ней? Что ждет ее там? Косые взгляды? Даже этот бородач, лучший друг, прикидывается, что ему весело, а хмурится и готов, кажется, растерзать ее за то, что прижимается к своему любимому. Сколько нервов и слез ей будет все это стоить! А зачем? Зачем трепать себе нервы ненужным? Разве их не на что тратить? А чем тут плохо? Кругом леса, речка под боком, климат чудесный, мягкий, и тут редко бывает ветер. Они муж и жена, два врача, неужели не выбьют квартиру? Ведь не заикались, не подали заявления. И Москва недалеко, можно учиться.
− Ты негодяй, − сказал после тяжелого раздумья Рокотов. − Лиля, вам не стыдно обнимать негодяя?
− Стыдно, − сказала она. − Но что поделаешь?
− А Хвастунов вас хвалит, очень хвалит, − заметил отец, прочитав предисловие к книге.
− Теперь он добрый, − отозвался Рокотов. − А знаете, как я сдавал ему госпитальную терапию? Умора! В молодости я любил это дело, − он пальцем пощелкал по графину. − Пропьянствовал перед экзаменами и очухался в страшном цейтноте. Девчонки набили мне карманы «шпорами». Хвастунов был ужасен! Продержал меня, змей, до конца экзаменов, а когда остались одни, говорит: «Выкладывайте шпаргалки». Погорел я, как швед под Полтавой, пришлось выворачивать карманы. «А теперь пошли сдавать», − говорит. Приволок к себе в кабинет, сам выбрал билет и предупредил: «Я ухожу на два часа. Пойду пообедаю, а вы готовьтесь». Он запер меня на ключ, змей, а кабинет на третьем этаже. Я пометался туда-сюда, как лев в клетке.
− Бедный! − сказала Лиля.
− Но для чего у меня голова? Через два часа Хвастунов приходит. Думал, что теперь меня поймал, я сижу, разглядываю себе потолок. «Готовы?» − «Всегда готов». − «Отвечайте». Я отрапортовал ему все чин чином, от зубов отскакивало, и он сдался. «Хорошо, − говорит. − Я знаю, что вы ничего не знаете. Пятерку я вам поставлю, только признайтесь, как раздобыли шпаргалки». − «Честно?» − спрашиваю. «Честно». И тогда я показал ему на телефон: «Звякнул девчонкам в общежитие: «SOS, задраен в трюме, иду ко дну». Они целый час начитывали мне по очереди, чтоб не охрипнуть».
Рокотов закинул голову, хохотал от наслаждения, будто сейчас только обдурил профессора.
− А пятерку он вам поставил? − спросила Лиля.
− Куда ж ему деваться? Честное слово дал. В прошлом году я ему показал свой ночной бред, он сказал: «Блестяще!» Блестяще так блестяще, другой бы возражать стал, а я − нет. Раззвонил крутом, и мне снова пришлось пыхтеть по ночам, готовить свой труд в печать. А теперь пугает Москвой. Я его ненавижу!
− А почему бы вам не поехать? − спросил отец.
− Зачем? У меня прекрасная лаборатория, богатейшее поле для наблюдений, чего я попрусь в Москву? Голову ношу всегда при себе, вот Дима с Лилей приедут − совсем весело будет.
Дима-то уедет, не удержит она его. А что будет с ней?
Рокотов точно уловил ее капитуляцию, заговорил с другом о чем-то кевдинском, ей непонятном.
Кичатов, когда рассказывал о Кевде, будто приобщал ее к необыкновенной жизни в необычном городке, белом и легком, как палаточный лагерь туристов. Поначалу Борода производил впечатление человека из такого города. Но она не знала, что любимого зовут там доктором Хиросимой. Почему-то это все меняло, будоражило. И вот тому подтверждение: едва Борода втянул его в разговор о делах, у Димы даже осанка изменилась, плечи будто развернулись, голос стал тверже, речь решительней. Оба они не заметили, как бесцеремонно отстранили ее, словно непричастна к их делу.
К черту! Она не знает доктора Хиросимы. Она знает Диму Кичатова, мягкого и не очень решительного человека. Другого не хочет. Она любит такого. И не отдаст его.
В открытое окно тянуло свежестью. Иногда в стеклянный плафон попадал крупный мотылек, бешено крутился вокруг горящей лампы и, пожужжав, стихал; их там набралось уже много, погибших у горячей лампы.
Лилин подбородок вдавился в плечо, и минутами Диме казалось, что у него две головы; когда Лиля хотела отодвинуться, он знаком просил не делать этого. Приятно ощущать такую близость, приятно, что Борода приехал к ним. В ответ можно улыбаться.
Он пока не поедет. Лиле будет плохо − значит, и ему. Если бы она попала туда по распределению и они бы встретились там, совсем другое дело... Хотя все в жизни повторяется. Когда-то Борода орал: «Мы мореманы», − а рядом была Юлька, сегодня он орет: «В пещере каменной», − а рядом Лиля, и он сам, Виль Рокотов, − такой же шебутной, только у него борода, кандидатство и слава на носу.
Эта мысль о том, что не поедет, рассеивалась поверху сознания веером, как у неврастеника, а глубоко в мозгу засела другая черная мысль, одно зловещее слово: «Убийца». Круглая тень на снимке священника − убийца. Признавай не признавай, а похоже, что рак. Притворялся, прикидывался пневмонией, плевритом, воспалением в брюшной полости, а теперь, когда свое сделал и можно без опаски себя обнаружить, снял маску.
Эта мысль, повторявшаяся назойливо, мешала думать всерьез об их с Лилей собственной судьбе − не до нее сейчас, ровным счетом никакого значения она не имеет перед тем, что убийца снял маску.
Дима вдруг увидел глаза Лили, широко раскрытые, направленные на отца, ужас в них. Над Бабаяном, читавшим в шезлонге, над головой его, на желтых обоях распласталась чудовищная, огромная, Чуть не с ладонь, черная бабочка с ярко-красными пятнами на крыльях. Кожа на руках Лили покрылась пупырышками, а на щеках вздуло пушок − будто по телу ее пробежал озноб.
− Смотрите! сказала Лиля и показала рукой на бабочку.
Бабаян повернул голову к стене, а они трое поднялись, окружили шезлонг, наклонились, стараясь получше разглядеть необычную гостью.
− Ну и тварь! − сказал Борода.
− Траурная, − заметил Дима.
Спугнуть и прогнать ее, однако, никто не решался.
Лиля отошла к дверям, щелкнула выключателем, и комната погрузилась в мрак. Только в окно светила зеленоватая луна. Дима и Борода отошли на середину комнаты, а Бабаян сполз ниже в шезлонге. Они все, как и Лиля, сообразили, что бабочка полетит на свет, к луне, и не двигались, ждали, когда она мелькнет в светлом прямоугольнике окна. Но время шло, а бабочка не вылетала. Лиля включила свет. Люстра под потолком вспыхнула ярко, а бабочки на стене не было.
− Ой, куда ж она делась?! − вскрикнула Лиля. − Я теперь не усну.
Дима и Борода бросились осматривать комнату, заглядывали в каждую щель, − бабочки и след простыл.
Дима остановился посреди комнаты.
− Странная вещь, − сказал он. − Мы все следили за окном, а никто не видел, как она вылетела.
Несовпадение. 10 глава. (Роман М.И. Вайнера, 1981 год)
«Учитывая нарастающую слабость больного, прогрессирующий характер заболевания, повышение температуры до 39°, высокий лейкоцитоз и высокую РОЭ, отсутствие эффекта от интенсивной терапии антибиотиками, образование множественных полостей в правом легком (где они их увидели? Они видели их?), следует считать, что на фоне сердечной недостаточности у больного развилась фридлендеровская пневмония (как жмет, как жмет) с исходом в множественные абсцессы правого легкого, осложнившиеся экссудативным плевритом».
Под этим заключением консилиума стояли подписи трех врачей: Скопцовой, Оброчнева и Фоминой. Дима в удивлении прочел его и перечел. Больного, в сущности, бросили на произвол судьбы. Вытянет сам − отлично, значит, повезло, а свернется − ничего не поделаешь, медицина тут бессильна.
Фомина-то как подписала? Попика она вряд ли смотрела. Боится стационара, как огня. Даже на тот срок, что военкомат откомандировал Диму в район просвечивать допризывников, отказывалась заменить его в стационаре. «Что-нибудь не так, а потом расхлебывай!» А подписала! Что за легкомыслие!
Дима поднялся и направился через двор в поликлинику выяснить, в чем дело.
Фомина, маленькая подвижная веселая блондинка, обрадовалась ему.
− Вот и вы, мой спаситель, − сказала она. − Меня тут совсем затерзали.
Она весело щебетала про «эти ужасные дни» в его отсутствие: сколько амбулаторных больных, ни минуточки свободной за две смены, а тут ее дергают из стационара, пристают с такими сложными больными, хоть караул кричи. Как будто не знают! Она и Виктору Борисовичу говорила: ради бога, на меня ничего не взваливайте, я ничего, кроме грудных клеток, не умею. Нет, больше она ни за что никогда не останется одна на всю больницу. Такую ответственность на себя брать! Ну, теперь у нее гора с плеч.
Дима дал ей выговориться, а потом спросил про попика.
− Я же вам говорила: от всех стационарных больных я отбоярилась, как могла. До вашего приезда.
− А почему стоит ваша подпись?
− Ах, да! Ну! Вспомнила, вспомнила! Это чистая формальность, Дмитрий Михайлович. Вся канцелярия была на мне в ваше отсутствие. Антонина Ивановна позвала меня. Больше некому. Что-нибудь не так? Ну, не смотрите на меня волком. Ах, я дура, вечно что-нибудь натворю.
Ее легкомыслие поразительно. Канцелярия...
− Успокойтесь, все так, − сказал Дима, подымаясь.
− Ах, Дмитрий Михайлович, вы испугали меня насмерть, − веселое настроение тут же вернулось к ней. − В наказание подежурьте сегодня за меня вторую смену. А то у меня дел уйма!
Дима пообещал, сделал шаг, ударился плечом об аппарат, чем очень рассмешил маленькую Фомину. Она смеялась заразительно и звонко, забыв, что за дверью больные, страдание, но под его взглядом оборвала смех.
− Ой, мне смешинка в рот попала!
Он шел, задумавшись, по коридору больницы, а в ушах еще звучал смех маленькой Фоминой. Что с нее взять, с этой щебетуньи? Не подозревая, подписала черт-те что. Возможно, смертный приговор. Выполнила канцелярскую формальность. Сделала любезность Антонине Ивановне. Нет у попика ни фридлендеровской пневмонии, ни абсцессов. Правды Скопцова слышать не хочет. Да знает ли он, Дмитрий Кичатов, правду? В чем она? Он может только отрицать то, что другие выдают за правду. Он может отрицать ее диагноз, но не знает, где настоящее заболевание.
На лестнице он столкнулся с Оброчневым.
− А, привет! − обрадовался тот. Губы его растянулись в улыбке, обнажив косые зубы среди них синеватые, пломбированные.
− Илья, что тут произошло?
А, так вы уже в курсе? Антонина Ивановна обратилась к коллективному разуму. Ибо в «Отче наш» сказано: «Не стыдись обратиться к коллегам за советом».
− Страхуется.
− «Береги авторитет свой» − заповедь пятая.
− Да перестаньте. Что Александр Иванович? Худо ему?
− Пусть молится своему богу.
− Не могу понять, что у него.
− А кто может?.. Загляните к преподобному. Он тут всех извел: где вы? Чем это вы его умаслили?
− Илья, иногда важно вернуться к тому месту, где была сделана ошибка. Если идти дальше, потом уже нельзя вернуться. Это все очень складно выглядит, что вы написали и подписали, а ведь это ложная картина заболевания. При нашем незнании собственной природы вносить в диагностику ложь из каких-то соображений − преступление.
− Невежество − не преступление. Мы не знаем, что у него.
Он направился было по коридору, но вернулся.
− Приходите ко мне завтра в пять вечера. Прихватите с собой мою крестницу Лилю. У меня есть бутылочка киндзмараули! Привезли из Москвы. Посидим, поболтаем. Лидуша будет вам рада. − Говоря это, он смотрел куда-то поверх Диминого плеча. − Договорились? Салют!
Диме показалось, что за этим приглашением что-то кроется, и он согласился.
Только зашел Дима в палату − и отпрянул: на него с перекошенным от ярости лицом кинулся больной, выставив вперед руку со стеклянным стаканчиком.
− У меня язва! − закричал он. − Не успели положить, уже на тот свет торопитесь спровадить, товарищ главный врач.
Дима инстинктивно перехватил стаканчик, поднес его к лицу − в нос ударил специфический запах валокордина. При раздаче лекарств сестра, наверное, перепутала. Ничего страшного от валокордина с желудочником не случится.
− Скажите сестре, она заменит.
− Скользкие, а не катаетесь! Вы меры примите. В шею таких отсюда!
− Я такие вещи не решаю, я не главный врач, − сказал Дима.
Язвенник выхватил у него стаканчик и поставил к себе на тумбочку − вещественное доказательство! Он был из тех эгоцентричных типов, что всегда обнюхивают или пробуют на кончик языка, а потом уж съедают или выпивают. Не дай бог, если каша горчит или пересолена, − вымотает всем душу. Он свирепо давил кнопку звонка, вызывая сестру. Остальное перестало для него существовать.
«Преподобный» и впрямь обрадовался Диме. В глазах его светилось что-то знакомое, волнующее, жалкое и преданное, ищущее защиты. Такая улыбка, робкая, едва-едва зарождающаяся, готовая каждое мгновение − чуть пугни − исчезнуть, возникала иногда на обращенном к нему лице Лили.
Когда Дима сел на табурет между койками, отец Александр устало и благодарно прикрыв веки, из уголка глаза вытекла слеза, превратилась, упав, в мокрое пятнышко на подушке. Дышал он тяжело, с хрипом и свистом.
− Видно, не выйду отсюда, − пожаловался он. − Нет, не выйду.
− Бросьте об этом думать.
Рука Александра Ивановича протянулась за носовым платком, упала поверх одеяла, мозолистые наросты на указательном пальце, накусанные, янтарно желтели. На лбу синели вены, губы запеклись, каштановая борода скаталась, а у самой кожи еще больше пожелтела.
Язвенник, как зверь в клетке, метался возле койки, что-то рычал, терзая кнопку.
− Господи, как одинок человек!
Не жалоба это была − почти стон вырвался из губ Александра Ивановича. У него был жар. И, видно, хуже жара мучала пылающая, как солома, мысль. Кому остановить эту лихорадку, эту переоценку?
− Там еще ничего, − Александр Иванович качнул головой в сторону окна, − там еще ничего... там люди сообща... Всю жизнь лелеешь связи, а сюда слег, и рвется все, как паутина... Вот только пупок. Пощупаешь его... То была, скажу вам, крепкая связь!.. Единственная... Отсекли пуповину и бросили в одиночество... Как посередь моря нет берегов...
Дима слушал его горячечные высказывания, отрывки фраз на коротком дыхании и не знал, чем помочь... Объединяла этого человека с кем-нибудь общая мысль, общее дело? Религиозные догматы он вряд ли принимал, а то, что называл верой, ворочалось у него в груди немо, без языка.
− Вот умру, доктор... уж вы меня не утешайте, ведь умру... а не знаю, жил я или не жил.− Он повернулся к Диме лицом, глаза его возбужденно блестели. − Вы мне скажите, жил я или нет?
− Что вы себя зря мучаете, Александр Иванович? Все мы хотим понять жизнь, через себя, через свой опыт, да разве многим это удается? Гениям разве.
− Вы меня утешаете, доктор.
Отец Александр откинулся на подушку,− тело его ослабло, сплющилось в постели,− сник, притих, ушел в себя, точно пробегал мыслью свой путь от первой минуты до нынешней и пытал: жизнь это или нет?
Россказни о вечной жизни в раю отцу Александру не нужны, ибо цеплялся он за жизнь здешнюю, думал о ней, о смысле ее, полагая ее единственной. На небесах, он знал, ничего нет.
Как ни сострадал ему Дима, как ни грустно ему было, а увидел себя со стороны. Что за смешное положение? Какая ирония: умирающий поп исповедуется перед ним, как перед своим духовником.
Дима собрался было, не тревожа отца Александра, удалиться, но в это время в палату стремительно вошла Скопцова в сопровождении сестры, направилась к его кровати, но увидела Диму и застопорила. Какая-то необычная. Его удивление все росло, пока не сообразил, что она перекрасилась. Перекрасилась хной. И сделала перманент. Новая прическа, короткая, красноватая, омолодила ее.
− Что тут происходит?
− Я требую главного врача,− закричал, наступая на нее, язвенник.− Сколько можно звонить? Замуровали, и никого не дозовешься!
− Я заведующая отделением.
− Прекрасно! Тогда поглядите! Можно мне это пить? − Он ткнул ей в руку стаканчик с валокордином. − Травить вздумали!
− Не хулиганьте! Вас положили лечить, а не травить!
Она, как всегда, была строга, но строгость сейчас как-то не вязалась с ее внешностью. За стенами больницы она другая, мягкая и счастливая, и глаза, вероятно, горят по-иному, когда мужская рука гладит эти волосы.
Она поднесла стаканчик к носу, кося глазами в сторону Димы, и тут же опустила его.
− Нечего шуметь. Это именно то, что вам прописали.
− Мне Илья Демидыч прописал соляную кислоту, а это какая-то вонючая отрава.
− Какой вы Фома неверующий! У меня самой болит желудок, вот я и выпью.
Она действительно выпила валокордин, передала посуду сестре, и та зажала ее в руке, будто удалось ей наконец заполучить то, что потеряла.
− Вот, − сказала Скопцова. − Стала бы я пить, что нельзя? Замените ему лекарство,− прикрикнула она на сестру, и та сразу кинулась вон. − Я так и знала, что это больное воображение. У меня в отделении не может быть таких вещей!
Повернулась и ушла. Язвенник ошарашенно уставился на белую дверь.
Дима не мог смотреть в глаза Александру Ивановичу: он-то знал, что в стаканчике был валокордин. Зачем она сделала это, выпила из посуды больного? Выдала правду за ложь. «У меня в отделении не может быть таких вещей!» Если понадобится, всех запутает, докажет, что черное − это белое.
− Вот это да! − опомнился язвенник.− Тут пропадешь!
Он опустился на койку все еще в легком шоке. Было почти физически ощутимо, как он, приходя в себя, смиряется с новым состоянием, с не им установленными больничными порядками.
«Может быть, это из-за меня? − подумал Дима.− Бели бы меня тут не было, она бы не нервничала, не делала ошибку за ошибкой. Или это срывы, не ошибки? Она знала, что там валокордин. Испугалась жалобы? Жалоба больного − чепе, плохой показатель работы. Она поступила, как милиционер, который скрывает неприятное происшествие на участке, потому что отсутствие происшествий − хороший показатель».
Валокордином этот тип не отравится, но проще было ведь извиниться, а не спасать честь мундира. Лгать из-за такой мелочи! Скопцовой и в голову не придет, что поступок ее не доблесть, а преступление. Галилей где-то говорит у Брехта: «Кто не знает истины, тот просто невежда, но кто знает ее и выдает за ложь, тот преступник». Что за странный вывих в психике этой бабы?
Александр Иванович или не заметил, что произошло, или сделал вид, что не заметил.
− Святой она человек, Антонина Ивановна,− пробормотал он.
Дима сидел на пне у тропы, чтобы держать в поле зрения пролом в заборе, вертел в руке веточку. Он долго бродил по лесу, по заброшенным тропкам, по лужайкам в белых ромашках, пробирался сквозь орешник, но лес сегодня не радовал. Раздражал чем-то. Дима прислушался и вдруг понял, что его раздражает: лес молчит. Тихо. Весной тут полно было криков, хлопанья крыльев, страсти, движения, деятельности, а теперь − только беззвучная возня в кустах. После дождя земля подсохла, но воздух был насыщен испарениями, тропинку то и дело переползали большие пауки, высоко между кустами летали мухи, голубые стрекозы, бабочки. Сорвался с верхотуры желудь, пострелял по ветвям, глухо ударился о землю. В парной духоте закричал ка-кой-то бунтарь, испугался собственного крика и смолк. Нет песен, когда все сыто и довольно.
В проломе забора показалась Лиля с черной сумкой. Перебралась на эту сторону и, увидя Диму, пошла по тропе пружинисто, с ходу огорошила его:
− Ко мне привязался сейчас какой-то идиот. Я огрела его сумкой – отстал: «Чего сразу драться? Сказала бы, что не хочешь, − пойму». Ты же понимаешь! Чего они, гады, ко мне пристают?
− Я тоже к тебе пристал.
− Ты не гад. Ты мой любимый. К остальным у меня дикое отвращение. Едешь в автобусе, какой-нибудь кретин прижимается, − мерзко до тошноты.
Она подвела ресницы карандашом, в уголках глаз косые штрихи – орбиты от этого казались больше. Она ведь не красилась раньше.
− Иди-ка сюда. Присядь.
Присела на корточки. Одним пальцем он осторожно стер карандаш.
− Не мажься.
− Я хочу быть красивой. А то не будешь меня любить.
− Ты и так хороша.
Он опустил руки на ее голое плечо, потянул к себе. Но Лиля вывернулась.
− Слушай, Дима, чего тебе хотелось час назад?
Час назад он был далеко в лесу и жевал кислый листок щавеля – со вчерашнего дня во рту ничего не было.
− Жрать, − сказал он.
− А чего именно тебе хотелось?
Когда жевал щавелевый листок, мерещился ломоть чайной колбасы, влажный и розовый.
− Чайной колбасы. Прямо исходил слюной, так хотелось чайной колбасы.
− Нет, − сказала она. – Это становится положительно интересно! Представляешь, сижу дома, ем колбасу, жую так себе. Ты же знаешь, я не обжора. И вдруг чувствую в себе желание слопать всю колбасу! Ты не представляешь, что это такое! Со мной никогда такого не было. Давлюсь от жадности, а знаю, что это во мне не мое, это чужое желание, и сколько ни буду есть − не наемся. И я подумала: где-то бродит мой Дима и страшно хочет колбасы. Я быстренько завернула ее в газету и − вот. Смотри.
Она достала из сумки сверток, развернула газету, в ней розовела колбаса, еще влажная на срезе.
− Так ты на самом деле хотел колбасы?
− Да. Тогда хотел.
Но есть он отказался, и она спрятала сверток в сумку.
− Мне просто страшно, что я позволяю тебе крутить собой. А кто ты такой, позволительно спросить?
− А ты знаешь, кто я?
− Кто ты?
− Я…
− Нет, кто ты?
В словах, только что произнесенных, было знакомое, тревожное. Где? Когда он слышал их? Во сне, который никак не вспомнишь.
Он поднялся и шагнул к Лиле.
Несовпадение. 9 глава. (Роман М.И. Вайнера, 1981 год)
Дима остановился, и она остановилась. Десять метров между ними. Кому-то их преодолеть. Наверное, ей.
Он стоял у сосны по колено в папоротниках, вполоборота, вытянул шею и ждал. Она не двигалась, и он зашагал дальше; плащ в опущенной руке бил по папоротникам, и они кланялись ему вслед. Тогда и она пошла за ним сквозь эту колышущуюся зелень, красновато-черные стволы сосен, косоугольники солнечного света. Они двигались так давно − на расстоянии десяти метров, с тех пор как ступили в лес, и она испугалась. Она с утра знала, на что идет, бросилась навстречу с радостью. Когда Дима, чистый, праздничный, отутюженный, в белоснежной рубашке, явился за ней утром и позвал за город, в Дубки, она знала, что поедут они не в это людное место. Оделась в походные брюки, кофточку с длинным рукавом. Будничная, почти домашняя, рядом с ним, отглаженным и чистым, выглядела случайной, минутной, и это возбуждало еще больше. Она не взяла с собой ни сумки, ни купальника, и он не спросил почему, не напомнил.
В автобусе она с нежностью разглядывала его лицо; но когда в лесу деревья заслонили солнце, точно задернули шторы, она испугалась. Испугалась его близости. И отстала. Нарочно. Нагнулась сорвать цветок, лиловый, на топком стебле. Он выдернулся с корнем, и пока обламывала, Дима оказался впереди. Оглядывается он редко − знает, что она идет за ним и не убежит. Но когда останавливается и ждет, она тоже останавливается и ждет, и он тогда идет дальше.
За соснами открылась пустошь, покрытая красноватым мхом. Мох цвел, пружинил и издавал чуть слышный стреляющий звук − это лопались под ногами тысячи красных тычинок.
За пустошью начался лиственный лес и густой орешник.
Впереди шуршало, мелькнула раз-другой белая рубаха Димы, потом вдруг все стихло. Лиля осторожно пробиралась вперед, отвела ветку. Перед ней была ровная поляна. Дима стоял по ту сторону.
Она шагнула на поляну и остановилась. Дальше не пойдут.
Чуть в стороне от нее белел в траве поваленный березовый комель, без корней. Древесина была сверху обнажена, источена, черные муравьи кучей копошились в ней, и на серый холмик в траве струйкой сыпались опилки; муравьи бегали без устали, будто выполняли срочную работу. Это было уже не дерево и муравьи, а потаенное явление природы, такое же сокровенное, как зачатие.
А до Димы считанные шаги. И он ждет. И сердце колотится в груди, как сумасшедшее, готово выскочить. В детстве мать, отлучаясь ненадолго из дому, строго наказывала Лиле не докучать отцу, когда он занимался у себя или отдыхал. Некоторое время Лиля стояла у запретного порога, потом, преодолев страх, говорила себе: «Пойду!» И − будь что будет! − распахивала дверь в комнату отца.
«Пойду!» − сказала она себе и сейчас, отбросила цветок и стремительно, очертя голову, как всегда после колебания, пошла к Диме.
Столик во дворе облепили «козлятники», у подъездов судачили женщины, на тротуарах девочки играли в «классики», а мальчишки пугали их, проносясь на велосипедах.
Дима еще издали показал окно своей квартиры. Он не ладил с родителями, Лиля догадывалась об этом по оброненным вскользь фразам и уже заразилась неприязнью к ним, а побороть желание познакомиться не могла. Дима сердился: «Зачем?» А ее влекло к нему в дом, посмотреть, как он живет, показать себя, утвердить в глазах его родителей свое право на него, без чего ее любовь казалась ей неполной и незавершенной. Уговоры не помогали, она настаивала, и Дима уступил, хотя с большой неохотой: «Сама потом пожалеешь».
Перед тем как открыть дверь, он не то пошутил, не то предупредил:
− С моей матерью надо быть или наглецом, или дипломатом. Наглецом − я не умею, а дипломатом − пожалуйста.
Их ждали. Его родители были одеты, точно собрались в гости. Знакомясь, Лиля возбужденно говорила; щеки Устиньи Климовны тоже порозовели. От платья несло духами; они постояли кучкой посреди комнаты, присматриваясь друг к другу, переживая первое впечатление. Устинья Климовна была намного старше мужа − это бросалось в глаза, − проигрывала рядом с ним, еще молодым, розово-загорелым, упитанным и гладким.
Лилю наконец усадили на диван. Устинья Климовна заторопилась на кухню. Михал Михалыч занял место за столом и затеял беседу на политические темы. Он знал про все, что делается на нашей планете. Из газет и телевизионной программы «Время». Лиля слушала рассеянно, осматривала с интересом квартиру: в нише над никелированной кроватью − огромный персидский ковер, на полу − пестрые дорожки, на тумбочке − телевизор под малиновым бархатом, стол накрыт плюшевой скатертью; тоже малинового цвета.
Михал Михалыча очень волновал Китай.
Он что, выясняет ее политическую подкованность? Скорей бы всё кончилось. А зачем затеяла? Дима знал, раз отговаривал. И он переживает. Курит у окна и нервничает.
Форточка над ним была открыта. Колыхалась в воздушной струе занавеска; лицо Димы то гасло в её тени, то на нем вспыхивали солнечные пятна на лбу, на щеке. Эта игра света действовала умиротворяюще.
− Что вы на это скажете?
Она так загляделась, что прослушала, о чем говорил Михал Михалыч.
− Вы меня извините, я лучше пойду на кухню, помогу Устинье Климовне. А о международном положении побеседуйте с Димой. Он очень любит.
Она поднялась и пошла на кухню. Устинья Климовна раскладывала салат в тарелки. И подоконник, и стол, и холодильник были уставлены блюдами с едой. Зачем столько?
− Разрешите, Устинья Климовна, я вам помогу.
− Вот еще! Вы у меня гостья, а я вас на кухне возиться заставлю.
− Мне это приятно.
Лиля придвинула пучок зеленого лука, принялась ножом обрезать увядшие перья, корешки.
− А вы на армянку не похожи.
Лиля вспыхнула, ждала продолжения, но этим ограничилось. Видимо, Устинья Климовна считала это своего рода комплиментом.
− Да, так многие считают.
− А покойница шибко не любила кухню, − продолжала без всякой связи Устинья Климовна. − Руки не пачкала. Обеды из ресторанов таскала, а на рестораны не напасешься. Белье − в прачечную, копейку не берегла, что заработали, то и тратили. А разве так можно, тратить все, что зарабатываешь? Приехал домой, привез чемодан с книгами, а одежка вся на нем, пальтишко осеннее, больше ничего не нажил. Как из тюрьмы вышел.
Лиля нагнула голову, чувствуя, как вспыхнуло лицо, горит, покрывается пятнами.
О Юле, жене Димы, она никогда ни с кем не разговаривала. Дима носит это в себе. И она носит это в себе. Юля была, но где-то далеко, в другом мире, в другой жизни.
− Они еще студентами сошлись, на четвертом курсе. Привозил ее показать. Нехорошо покойников осуждать, а вам скажу − не понравилась! Ногти накрашены, зад штанами обтянула. Срам − и только! И болтает невесть что. В другой раз уже из Кевды приезжали.
Лицо Лили горело. Никогда в жизни она не испытывала такого унижения. У той самые лучшие намерения − Лиля понимает: хочет расположить к себе, но если бы нарочно захотела унизить, не смогла бы это сделать лучше и больней, чем сейчас. Зачем эта откровенность, эта страшная болтовня? Зачем ей это знать? И как гнусно так говорить: сошлись... Ах, Дима ведь предупреждал: с его матерью нужно быть или наглецом, или дипломатом.
Какая тут дипломатия, когда хочется накричать, заставить молчать, не позволить говорить про то, что у нее с Димой, − сошлись!
Она отложила нож. Оглянулась: вот дверь, через прихожую другая − на лестницу. Выйдя из кухни, встретила взгляд Димы.
Он так зло сжал челюсти, что напряглись желваки. Она пожалела его, передумала удирать, решила спрятаться куда-нибудь, успокоиться, взять себя в руки.
− Покажи мне свою комнату, − попросила она.
Они вошли в узкую комнату с письменным столом и кроватью.
− Что? − повернулся к ней Дима.
− Ничего.
− Что-то ведь случилось. Ты посмотри на себя.
− Ничего.
Не могла она сказать ему, о чем Устинья Климовна говорила на кухне.
− Ты от меня скрываешь.
− Да не терзай ты меня!
Дима вышел. Она сидела одна, пока не позвали к столу.
И за столом не могла уже сосредоточиться, плохо соображала, о чем с ней разговаривают, ела неохотно и мало. Даже вино не успокоило, от него жарче стало.
В довершение всего какое-то насекомое забралось в чулок, щекотало, ползло по бедру, под коленку, потом вниз по икре. Лиля замерла, прислушиваясь к этому щекотанию, боясь протянуть руку и придавить то, что там ползло.
Потом еще одно пробежало вниз, щекоча.
Капроновый чулок! Спускает петли, и так щекочет бегущая нить. Этого еще не хватало!
Когда Устинья Климовна зачем-то отлучилась на кухню, Лиля быстро поднялась и, прежде чем ее успели задержать, уже прощалась у дверей.
Устинья Климовна, расстроенная, выбежала из кухни.
− Куда же вы? У меня еще сладкое. Я торт испекла. Чай попьете. Куда торопиться?
− Спасибо. В другой раз.
Пусть обижаются. Это уже не имеет никакого значения. Больше ее сюда не затащат.
Пятясь, чтобы не видели ее сзади, она выбралась на лестничную площадку.
Дима, угрюмый, провожал ее до трамвайной остановки.
− Оставь ты меня одну. Что ты ко мне привязался!
− Ты ведь сама хотела. Я тебе говорил: не нужно. Что, я их не знаю?
− Уходи!
− Чего ты бесишься?
− Уходи! Я не хочу тебя сейчас видеть. Уходи! Я не двинусь с места, пока не уйдешь. Буду стоять, как столб, до утра, но ты уйдешь.
− Что тебе там мать наговорила?
− Ничего! Уходи! И не оглядывайся.
Лиля облегченно вздохнула, когда он повернулся и зашагал назад по своей улице.
На столе, уже убранном, в хрустальной вазе распался букет пионов, и лепестки, осыпавшиеся, влажно отсвечивали на малиновой скатерти. Отец, все еще в костюме, чинно, как гость, смотрел телевизор.
В кухне гремела посуда. Дима направился туда. Мать, подвязавшись фартуком, перемывала тарелки под краном. Шумела газовая колонка, брызги летели из раковины почти на середину кухни.
− Что ты ей нагудела?
Он едва сдерживал себя, чтобы не наговорить с ходу грубостей.
− Чего! О чем промеж баб разговор идти может: тара-баля два кола.
− А почему такая ушла?
− Нешто обиделась? Пожаловалась?
− Сам вижу − глаза есть.
Она закрыла кран, брызги перестали лететь на пол, в окошке колонки метался синий язычок пламени, точно хотел сорваться с запальника и не мог.
− Обиделась! Скажи...
Вытерев руки о фартук, сняла его, повесила на крючок за дверью, повернула рукоятку на колпаке, и синий язычок пламени сгинул. И мать была обижена, да не открывалась.
− Что случилось?
− Нешто сам не видел, не понял? «Глаза есть», − передразнила она, отправляясь из кухни в комнату. Села рядом с отцом смотреть телевизор. Гнали московскую программу − концерт мастеров искусств.
− Не ей обижаться! − обронила мать.
− В чем дело?
− Осудила. Все как есть осудила. Глазищами каждую вещь прощупала и осудила.
− Нужны ей твои вещи.
− Дурак! Не вещи, а жизнь нашу осудила! А какое у нее право мою жизнь осуждать? Пришла, глазищами повертела − и все тут. Или я неправильно Жила? Или кого убила, осиротила? Сама с ней говорю и оглядываюсь: чего это я свою жизнь не такой вижу? Уж не колдовство ли какое?
− Ну, что еще?
− Не понравилось ей у нас.
− Да с чего ты взяла?
− Я, чай, не слепая − вижу.
Он знал, что это так, что Лиле действительно не понравилось. Ну и что? Не понравилось так не понравилось − не вместе жить. Зачем сразу ссориться? А ведь поссорились. Ничего не было сказано плохого, при нем, во всяком случае. А обе разошлись, будто поссорились, Что они, настроены на ультразвук? На то, что еще только думается, еще только складывается в мысль. И даже не в мысль. Ощущение. Осудила! Доказать не может, а не разубедишь.
На экране Муслим Магомаев пел куплеты Мефистофеля: «Сатана там правит бал!»
− Разорался! − мать поднялась, повернула регулятор звука, и теперь Муслим Магомаев раскрыл рот на экране широко, но совсем беззвучно.
− Деньги платят, вот он и орет, − заметил отец.
− В толк не возьму, чего это у нас ей не понравилось. Иль я не старалась − все на столе было, ничего не пожалела. Или худое слово молвила? Или рылом для нее не вышла? − Она смотрела на Диму. − Уж я тебе сразу скажу: не пара она тебе.
− Это я сам разберусь: пара или не пара!
− С одной намыкался − будет! Тебе ласковая нужна, домовитая, чтоб постирать, покормить, детей растить. Коли ты жениться задумал... Чем тебе Тамара не невеста? Она по тебе сохнет. А Тамара не по нраву, другую подыщу.
− У нас полный ассортимент, − сострил отец.
− Не старайтесь.
− Или я тебе не мать? Кто же стараться-то будет? А эту из головы выбрось. Жить тебе с ней не дам.
− Не лезь, куда тебя не просят.
− Нет уж, буду лезть. Или я не мать?
Она считала, что ребенку нельзя потакать: если хочет до зарезу в кино − надо посадить за уроки, если собрался почитать книжку − надо послать на улицу. Всю жизнь − поперек. «Нет уж, делай, как я сказала». При нужде могла сослаться на педагогику. Ее образование состояло из слухов. Слух превращался в достоверный факт, и она оперировала им, как фактом. Когда ей запало в голову, что основа воспитания − это насилие над чужим желанием? Она без шуток считала, что он родился ломать вещи и озорничать. Наказывала, чтобы приучить уважать вещи и дисциплину, а добилась, что он плевать хотел на вещи и уже в детстве скрывал от нее свои желания. А сейчас он, как идиот, дал себе размякнуть, забыть, поверить, что раз ему хорошо, то и матери радостно.
Надо было отговорить Лилю, не пускать ее сюда.
− Я тебе худое не посоветую.
− Ну, ну, ищи, − буркнул он и отправился к себе в комнату.
Он взял со стола раскрытую книгу – давалась она ему медленно, наводила на размышления, − сел в кресло и принялся читать. «Человек направляется к своему дому; я не знаю, что он несет туда − ссору или любовь. Я должен спросить себя: «Что это за человек?»
Эта мысль поразила его, и он сидел задумавшись.
− Жить тебе с ней не дам! И не думай! − сказала мать, появившись на пороге.
− Не мешай, я занят.
− Чем ты занят-то? Сидишь в носу ковыряешь.
Он стиснул зубы, поднялся и закрыл перед ней дверь.
− Врач, а не лечишь! – крикнула она со злостью.
Всегда кричала так, когда хотела уязвить его: «Врач, а не лечишь!»
Несовпадение. 8 глава. (Роман М.И. Вайнера, 1981 год)
Солнце уже закатывалось. На горе все потеряло объемность. Дома разных этажей вписаны в светло-лиловое небо сплошной тенью, плоской, растянутой уступами вширь. На заречной стороне воздух на высоте еще светился розово, как газ, а все кругом притихло в ожидании.
Лиля повела плечами: большой город, погружающийся в темноту, пугал ее. Было не по себе еще и оттого, что на «Волгу», которая возила ее по первым вызовам, сел другой врач.
Ей пришлось пересесть на УАЗ. Выехали со двора. Лиля откинулась на спинку кресла. Что еще выплеснет эта ночь? Как не похожа одна на другую. Какие они разные! Как не страшна, когда с тобой кто-то близкий, как много обещает! И как враждебна, как пугает, когда ждешь только беды от нее... Из всех звуков, которые рождаются в темноте, слух настороженно ловит один − крик о помощи. И ты летишь и не знаешь, способна ли помочь. Зачем она дала уломать себя дежурить ночь под воскресенье? Самую беспокойную ночь. Пьют, переедают, нервничают, дерутся, а ты мечешься. Что же, на ней собираются так все время ездить? «Ты молодая и сильная». Господи, сколько на нее уже взвалили. Просто мечтали о такой безотказной дурочке. Из-за этого поганого дежурства она оттолкнула Диму. Но, может, оно и к лучшему. Она сама придет, как обещала.
УАЗ миновал освещенный центр города и нырнул в потемки боковой немощеной улицы.
Фонари горели очень далеко друг от друга, мрак кое-где разрывался освещенным окном. Был всего одиннадцатый час, а во многих домах уже спали.
УАЗ развернулся вдруг наискосок дороги, водитель включил фары, и яркие круги света вырвали из тьмы стену двухэтажного дома, номерной знак, − да не тот, что в вызове.
Проехали осторожно чуть дальше, еще раз снопы света вспороли темноту, расплющились кругами о бревенчатую стену на кирпичном цоколе, осветили у ворот парня в клетчатой рубашке, брюках в обтяжку и черных лакировках. Прихрамывая, парень двинулся к машине, и Лиля тоже стала выбираться из кабины.
− У жены сердечный приступ, − сказал хромой скорее зло, чем с тревогой, и, когда появилась санитарка с ящиком, пошел впереди, показывая дорогу.
Во дворе у забора белел душистый табак. Лиля на ходу сорвала цветок и поднесла к лицу. Хромой шагнул в дверь подвала, как в черную пропасть. Какие-то секунды его не было видно, затем вспыхнул внизу фонарик, желтый круг света, мечась, бежал за черными лакировками, точно боялся отстать, и, когда замер на месте, раздался скрип отворяемой двери. Шаря рукой по стене, едва различая ступеньки, Лиля спустилась в подвал и очутилась в комнате с толстой балкой поперек нависшего потолка. Цветастые шторы отделяли какие-то хозяйственные углы, мебель стояла так тесно, что к кровати, на которой дурным голосом ойкала молодая женщина, пришлось протискиваться. Рубашка на ней промокла от пота − хоть выжимай. Лиля выслушала женщину. Нет, это не было приступом сердечным, Скорее нервное.
− Обидел кто? − сразу оценила обстановку санитарка.
Лиля ввела успокоительное. Ожидая его действия, пошлепывала больную ладонью по виску, по щеке, гладила лоб, успокаивала, как ребенка.
Парень угрюмо наблюдал за ними.
− Обидели, обидели, − утешала Лиля. − Ну, ну, сейчас пройдет.
− Кто ее обидел? − огрызнулся хромой.
Лиля уничтожающе взглянула на него.
− Грейте воду, чего стоите? Утюг включите.
Пока он возился за шторой, грел воду, искал утюг и резиновую грелку в шифоньере, Лиля снова выслушала сердце.
− Это нервное, − заключила она. − С сердцем у вас все в порядке.
Хромой появился с грелкой.
− Теперь мне ясна болезнь моей жены,− проговорил он многозначительно и зло. Тон его не предвещал ничего доброго.
− Мне плохо, а он в парк собрался, на танцы, − слабым голосом пожаловалась женщина.
− А ты вопи погромче.
Лиля помогла женщине снять мокрую рубашку. На мгновение засмотрелась на нее: так хорошо была сложена − совсем молодое, гибкое и нежное тело, − поймала брошенный халатик, одела, в него женщину, укутала в одеяло, приложила теплый утюг к ногам, грелку − под руки. Можно уходить.
− Вы подождите, доктор, − попросил хромой.
− Нам ждать некогда.
Санитарка закрыла за собой дверь, и они снова очутились в непроницаемой тьме. Хромой стрельнул фонариком возле своей ноги, и круг света метнулся за черными лакировками, точно боялся, что его оставят здесь одного. Лиля выбралась из подземелья. Сорвала еще цветок табака − на руку упала капля сока.
− Берегите жену, глупый человек, − сказала она, остановившись перед машиной. − Такую жену беречь надо.
− Откуда вы знаете, кто виноват? У вас, раз мужик, то виноват. И так на цепи сидишь.
− Молчите уж.
− Себешники вы, мужчины, − поддержала ее санитарка. − В толк не возьмете: любовь одна, да на два сердца.
Лиля забралась в кабину. Грохнула дверца. Машина осторожно двинулась вперед.
УАЗ швыряло вверх и вниз, из стороны в сторону, как на испытательной установке. Лиля втянула голову, упиралась ногами, спиной, руками, но все равно при сильном броске ударялась головой о верх кабины. Дорога − под стать настроению. Дорога из Маньчжурки. Вызвали уже к мертвому. Лиля засвидетельствовала смерть. Дикую. От ножа.
− Сегодня еще ничего, − сказал шофер. − Зарплату не выдавали. А то отсюда только и возишь − народ тут бедовый.
УАЗ выбрался на ровное место, полз вдоль забора, освещал себе фарами дорогу.
В одном месте показались высокие ворота с арочной вывеской: «Бетонный завод».
− Здесь должен быть телефон, − сказала Лиля. Шофер остановил машину. Лиля спрыгнула на землю. В проходной техничка, согнувшись, мыла пол.
− Где у вас телефон?
Жест в сторону дежурки. Лиля вытерла ноги о мокрую мешковину и переступила порог.
− «Скорая», − отозвался в трубке сонный недовольный голос диспетчера.
− Доктор Бабаян. Бетонный завод.
− На пункт.
Пока Лиля дозванивалась к диспетчеру, в проходную заглянули две работницы.
− Чего не видели! − крикнула на них, выпрямившись, техничка.
− Хотим видеть, кого увозят.
− Никого не увозят. А ну назад! Натопчете. Совести у вас нет. У-у, головешки бестолковые!
Женщины взглянули на Лилю, поверили ей, что она просто воспользовалась здесь телефоном, и скрылись в темноте двора. Техничка повернулась к Лиле, узнала ее. Это была Кузина.
− Ночью мы белых халатов страх как боимся. Раз «скорая» − значит, травма.
− Как живете? − спросила Лиля.
− Ничего живу, спасибо. Сутки дежурю, двое − дома.
− А девочка учится?
− Дочка у меня − во! Остра умом. От башковитого ее родила.
Лиля улыбнулась, попрощалась и пошла к машине.
Они еще долго плутали по закоулкам, пока не выбрались на магистраль у крутого поворота. От этого поворота шоссе широко распахнуто в стороны, как две руки.
Слева, одна за другой, неслись легковые машины с зажженными фарами.
Лиля откинулась на спинку сиденья, завороженно смотрела на проносящиеся машины. Хорошо, что есть это сверканье лака, стекла, эта праздничная яркость света; хорошо, что есть асфальт в бетонных берегах, хорошо, что есть эти тонкие столбы с лампами, хорошо, что есть веселье, человеческая жизнь, а не только бьющаяся в истерике душа.
И снова вспомнила она Диму у себя в комнате, покорного, с таким славным и добрым даже в озарении страсти лицом. Нет, у них не будет грубости, обмана, у них все устроится по-иному. Никогда у нее не будет истерик из-за Димы.
Машины, приближаясь слева, на вираже вдруг переставали источать слепящий свет, проносились плавно, как на параде, давая разглядеть себя от радиатора до багажника. Одна за другой.
УАЗ выбрался на шоссе и вскоре въехал во двор больницы. На приколе уже отдыхали две машины − значит, стихло.
Лиля толкнула дверцу и спрыгнула на землю. Навстречу ей поднялся со скамьи человек с круглой стриженой головой. Дима! Это было так неожиданно, что, когда он приблизился к ней, ткнулась лбом ему в плечо. Эта слабость, потребность в защите длилась миг. Лиля отстранилась и направилась к скамье под окном. В комнате врачей и санитарок свет был погашен. В смежном кабинете под яркой лампой, уронив голову на руки, между телефонами дремал диспетчер. Слышался храп шоферов.
Дима присел рядом с ней на скамью.
− Я не могу больше без вас, − сказал он.
Она взяла его руку в свою − ничего не надо говорить. Ей стало до слез хорошо от его признания, но из памяти не шла женщина в истерике и бегущий на танцы муж. Лакировки надел.
Разве им врач нужен?