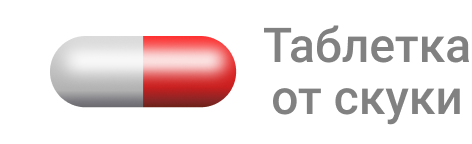Упокойничек.
*Людям со слабым сердцем и желудком читать не рекомендуется.*
На слет имбецилов попал я, естественно, по пьяни. Поехали с корешами на трех УАЗиках типа на рыбалку. «Озера – там говорят – красотища. Рыбы видимо, не видимо». Ну, пока они в магазине водку грузили, я нормально на это смотрел, но когда взяли воблы, селедки и блядей в придорожной столовой, мелькнула у меня мысль: «Быть беде». Мысль, правда, до конца не оформилась. Я в этот момент как раз водкой поперхнулся, так как кончать одной из этих дур в рот начал.
Ну чё, приехали, ясен хуй, в лес. Лужа там какая-то мутная. В луже мужик с мочалкой моется. «Я – говорит – в Польшу на танке пиздую». А у самого в кустах велосипед «Орленок» и сала шмат. Да и вообще не сподручно в Польшу через Казахстан. Ну, да хуй с им. Налили ему – отрубился.
Пацаны в озеро плюнули. Купаться никто не решился. Хорошо хоть удочек не брали. Приняли по пузырю из горла, и начали быт обустраивать. Лапника нахуярили в кучу сложили, решили, что слабаки на нем спать будут. Потом, значит, костерок развели, уху типа варить. Только, что за уха из воблы с селедкой. Тушенки открыли. Приняли по второй.
Слабаков не нашлось. До лапника ни одна тварь доползти не сумела. В основном кто, где был там и попадали. Я в костер, чуть не завалился, но отполз малость. Футболку, правда, прожег на груди. Да хрен с ней с футболкой, грудь обжег.
Как-то дальше все стробоскоп на сельских танцах напоминало. Вспышка – дерутся. Другая – ебутся. Третья - пиздят тех, что ебались. Между вспышками темнота, тишина и запах самогона смешанный с амбре плохо мытых трудовых тел.
Еду я, в общем, на «Орленке» сзади мужик какой-то с мочалкой бежит. Орет чего-то, и вроде как проклинающие заклинания сотворяет. Только стробоскоп тут потух и мужик этот в темноте сгинул. Я педали себе кручу, ибо нужно мне куда-то доехать. Это я потом понял, кому было нужно… А пока с горки на горку. Через ручьи и буераки. Ветки по лицу хлещут. И тишина. Ни одна даже сова не ухнула.
Вижу за деревьями сияние какое-то неясное. Я руль повернул малость, да туда. Не доехал, правда. Дубиной меня из темноты оглоушили. Мордой я аккурат в пень угодил. Очухался малость. Лежу на поляне. В ямке специально отрытой гнилушки синим огнем мерцают. Шепот вокруг замогильный, не по себе малость стало. Начал я в тот шепот вслушиваться. «Кончать – говорят – надо. Видимое ли дело, чтоб святой отец, да в трусах в клетку на радения заявился?»
Ну, тут защитник у меня появился. Говорит: « В Книге как сказано: « Лик его кровав и прекрасен. Ноги его грязны. Грудь его огненным знаком помечена». Да и кто сюда через наши кордоны проедет? Думаю, братья, что это именно тот, кого и ждем мы в эту ночь безлунную».
Тут гнилушки как-то поярче светить начали, и увидел я пять фигур в балахонах. Головы сдвинули, шепчут зловеще, и знак копья периодически в воздухе чертят. Прямо боевыми копьями и чертят. Глаза их, из под капюшонов, красным сверкают. Четверо предлагают «кончать», а пятый уговаривает их, мол, дождались, кого надо, берем его, и домой, нехрен по лесу шариться. Тут меня такая святость разобрала, что и самому-то теперь не верится. « Что же вы – говорю – братия, святого брата по башке дубиной-то хряснули. Нет, чтобы накормить, напоить, да и порадеть вместе».
Эти как-то задумались. Один, правда, сомнения проявляет и говорит мне голосом елейно – противненьким: «Пароль - Польша». Я, не долго думая: «Отзыв – танк».
Пронесло. На колени попадали. Ноги облобызать пытаются. Понятно дело, в Книге сказано «Ноги грязны», знать и грязь та, свята и волшебна. Оттолкнул я их от ног, встать велел. Водки говорю, давайте. Эти на колени бух. «Прости – говорят, Великий брат, водки нет только самогон на томатной пасте». Простил. А что еще делать? Отхлебнул самогона, полегчало мне. Остатками рану на лбу, да шишку на затылке смазал. Жжет падла – градусов семьдесят.
- Ну, что – говорю – греховодники, зачем ждали, что от меня потребно?
- Так великий обряд свершить. Средний брат у нас помер.
И давай знак копья свершать, чуть в живот меня не пырнули.
- Отчитать, стало быть, надобно – говорю. - Много ли грешен был упокойничек?
- Не так, чтобы много, но один грешок у него был, и прямо надо сказать смертный. В молодости еще не стал он девчонку – сиротку пятилетнюю сильничать. Хоть и понять его можно – сиротка та дюже страшна была. Глаз один у ей вытек, лишай по всему телу, в волосах колтун, щеки ей крысы погрызли, нос сгрызли совсем. Но в Книге сказано: «Кого поймал, того и еби». Долго брат убивался, что словил это чучело. Все завтра обещал поступить по Завету. А девчонка-то возьми и помри с голодухи. Так и согрешил.
- Раскаялся, стало быть – говорю.
- Ох, раскаялся! Не то, что сироток, кошек всех в окрестных деревнях пересильничал. Святую жизнь вел. Уж и не хочется ему, уж мутит от насилья и крови. Примет мухоморовки святой и в деревню шасть. Под утро придет. Лик исцарапанный страшен, волосенки повыдерганы, ряса в кровищи, сил не то что святым знаком себя осенить, но и в постель упасть нетути. Постоит, постоит – рухнет на пол. Да и лежит так до ночи, до мухоморовки стало быть и радения. Лик у него аж в ночи посверкивать начал. И вроде бы в чертоги его святые, ан грешок-то остался. Смилуйся, святой отец, отмоли брата среднего!
На колени снова бухнулись, ноги лобзают. Я, стало быть, стою-думаю: «Молитв я не то, что ихних, никаких не знаю. Но это полбеды уж прогундосю нечто греховное. А вот ежели кошку ебать, да в деревне валенков нетути? Бяда…»
- Хватит – говорю – ноги мне лобзать. Всю уж грязь святую послизывали анафемы. Пойдем в скит ваш, глянем на упокойничка. Мало ли … В чертогах то тоже не каждой харе рады, мож и не к чему он там вовсе.
Скит оказался обыденный такой. Стена крепостная из почерневших за столетия лиственниц в пять человеческих ростов, ров, трапезная, спальная, да молельня почерневшая. Не то, чтобы я раньше в таких местах бывал, но фильмы-то из истории средних веков посматривал.
Прошли в трапезную. Там главный ихний хряпал, что-то на вид противное. Может и правда гадость какую, а мож это мне и показалось. Мне с перепою дурно всегда. От одного вида пищи проблеваться могу. А тут еще морда жирная потом и кровью лоснящаяся пальцами толстыми с ногтями грязными все это в рот пихает. Да еще и указательным пальцем вглубь проталкивает. Струганул я ему в кушанье прямо, а он ниче так, дальше жрет только глаза посверкивают. Доел, пальцы жирные о волосы сальные вытер, говорит:
- Что, отче, отчитаешь нам брата среднего? Доведешь его до чертогов? А мы уж тогда и почет тебе и уважение, и мешок печени лягушачьей сушеной, и все как по завету положено.
- Глянуть бы говорю на брата вашего, мож и не место ему в чертогах. Мож там от мерзости его все блевать начнут.
- Ты, отец, говори – говорит – да не заговаривайся. А то хрясну тебя сейчас половником, да и отпою потом обоих. Оптом дешевле – и ржет зараза, как раненный пони. А то и по другому спроворить можно… Поймаем мы тебя, да как по книге положено все и оформим. Результат – говорит - тот же будет, зато братии на лов никуда ходить не придется.
- Нет, уж – говорю. Неча меня ловить. Водки дайте ведро, да яиц вкрутую. Пойду, отпою к утру брата вашего среднего. Отчитаю за ночь, чище новорожденного будет.
- Ты сильно-то так не старайся. А то и правда дочитаешься. По книге-то, кто в лове ни разу не участвовал и чертогов недостоин. «И младенцы их, что во младенчестве померли, из чертогов тех изгнаны будут и жить им под полом с пауками и крысами.» - так ли отец святой в книге сказано? – и подмигивает мне глазом кровавым.
- Водку с яйцами тащите – ушел я от прямого ответа.
- Водки, стало быть, нет. Дадим самогона бурякового полчетверти и яичко одно воробьиное вкрутую. Так уж ты отец расстарайся. А то мало ли чё…
- Тащите уже самогон, яйцо, да рясу с книгою прихватите.
- Думаешь, надо там тебе чего будет? – мерзко оскалился старец. Ну, ну…
Прошли мы по двору заплеванному. На стене часовые алебардами в лунном свете посверкивают. Мыши летучие лунный диск пересекают. Тишина гробовая.
Мертвый, правда, был без косы. Посреди часовенки с копьем на куполе и пристроили его. Прямо на некрашеный, не струганный да замызганный кровью стол. Видок у него, надо сказать, был не очень. Ряса рваная вся. Сквозь рясу струпья на поросшем густым черным волосом теле просвечивают. Нога правая сломана. Аж кость торчит. Руки грязные в кулаки сжаты. В пальцах волосики белокурые тонкие, детские видать, сохранились. Лик кровав. Этим-то радетелям он мож и прекрасен. А я кровь, запекшуюся среди прыщей и струпной зелени не очень люблю.
- Где это так его угораздило? – спрашиваю.
- Так в Никольском вчера на радении – отвечают. Мы деревню то обложили, сироток по-быстрому наделали, и давай их ловить. Местные-то привычные особо и не разбегались, а Симеон городскую углядел, что к бабке на лето приехала. Он за ней, она в окно. Он в окно, она на улицу. В воротах за патлы было ухватил, вырвалась. Кинулся он за ней по улице, она на площадь. Он туда, она на колокольню. С колокольни и хряпнулся.
- Поймали?
- Знамо дело. Все по книге свершили. Да на колокольне и повесили. Слышишь?
Откуда-то из-за леса доносились звуки, которые мог бы издавать мешок картошки, ударяясь по колоколу под воздействием ветра.
- Ладно, вон пошли! Радеть буду.
Только дверь притворилась, я сразу начал яйцо воробьиное чистить. Что мела мне не дадут я сразу смекнул. А тут, пожалуйста, в чистом виде. Маловато, конечно, карбоната этого на воробьином яйце, ну да выбирать не приходится. Черчу, стало быть, круг на полу часовни заплеванном. Вдруг скрип сзади. Обернуться страшно, и не посмотреть, сил нет. Глянул. Сидит упокойничек на столе. Челюсть у него слегка отвалилась, скалится как-то не по доброму. «Что ж ты – говорит – самозванец, приперся-то сюда? Душу мою загубить хочешь? В чертоги не допустить?». У меня и язык парализовало, и сердцем чую говорить с ним нельзя. Молчу, круг чертить заканчиваю.
Он кость свою обломанную на прав
На слет имбецилов попал я, естественно, по пьяни. Поехали с корешами на трех УАЗиках типа на рыбалку. «Озера – там говорят – красотища. Рыбы видимо, не видимо». Ну, пока они в магазине водку грузили, я нормально на это смотрел, но когда взяли воблы, селедки и блядей в придорожной столовой, мелькнула у меня мысль: «Быть беде». Мысль, правда, до конца не оформилась. Я в этот момент как раз водкой поперхнулся, так как кончать одной из этих дур в рот начал.
Ну чё, приехали, ясен хуй, в лес. Лужа там какая-то мутная. В луже мужик с мочалкой моется. «Я – говорит – в Польшу на танке пиздую». А у самого в кустах велосипед «Орленок» и сала шмат. Да и вообще не сподручно в Польшу через Казахстан. Ну, да хуй с им. Налили ему – отрубился.
Пацаны в озеро плюнули. Купаться никто не решился. Хорошо хоть удочек не брали. Приняли по пузырю из горла, и начали быт обустраивать. Лапника нахуярили в кучу сложили, решили, что слабаки на нем спать будут. Потом, значит, костерок развели, уху типа варить. Только, что за уха из воблы с селедкой. Тушенки открыли. Приняли по второй.
Слабаков не нашлось. До лапника ни одна тварь доползти не сумела. В основном кто, где был там и попадали. Я в костер, чуть не завалился, но отполз малость. Футболку, правда, прожег на груди. Да хрен с ней с футболкой, грудь обжег.
Как-то дальше все стробоскоп на сельских танцах напоминало. Вспышка – дерутся. Другая – ебутся. Третья - пиздят тех, что ебались. Между вспышками темнота, тишина и запах самогона смешанный с амбре плохо мытых трудовых тел.
Еду я, в общем, на «Орленке» сзади мужик какой-то с мочалкой бежит. Орет чего-то, и вроде как проклинающие заклинания сотворяет. Только стробоскоп тут потух и мужик этот в темноте сгинул. Я педали себе кручу, ибо нужно мне куда-то доехать. Это я потом понял, кому было нужно… А пока с горки на горку. Через ручьи и буераки. Ветки по лицу хлещут. И тишина. Ни одна даже сова не ухнула.
Вижу за деревьями сияние какое-то неясное. Я руль повернул малость, да туда. Не доехал, правда. Дубиной меня из темноты оглоушили. Мордой я аккурат в пень угодил. Очухался малость. Лежу на поляне. В ямке специально отрытой гнилушки синим огнем мерцают. Шепот вокруг замогильный, не по себе малость стало. Начал я в тот шепот вслушиваться. «Кончать – говорят – надо. Видимое ли дело, чтоб святой отец, да в трусах в клетку на радения заявился?»
Ну, тут защитник у меня появился. Говорит: « В Книге как сказано: « Лик его кровав и прекрасен. Ноги его грязны. Грудь его огненным знаком помечена». Да и кто сюда через наши кордоны проедет? Думаю, братья, что это именно тот, кого и ждем мы в эту ночь безлунную».
Тут гнилушки как-то поярче светить начали, и увидел я пять фигур в балахонах. Головы сдвинули, шепчут зловеще, и знак копья периодически в воздухе чертят. Прямо боевыми копьями и чертят. Глаза их, из под капюшонов, красным сверкают. Четверо предлагают «кончать», а пятый уговаривает их, мол, дождались, кого надо, берем его, и домой, нехрен по лесу шариться. Тут меня такая святость разобрала, что и самому-то теперь не верится. « Что же вы – говорю – братия, святого брата по башке дубиной-то хряснули. Нет, чтобы накормить, напоить, да и порадеть вместе».
Эти как-то задумались. Один, правда, сомнения проявляет и говорит мне голосом елейно – противненьким: «Пароль - Польша». Я, не долго думая: «Отзыв – танк».
Пронесло. На колени попадали. Ноги облобызать пытаются. Понятно дело, в Книге сказано «Ноги грязны», знать и грязь та, свята и волшебна. Оттолкнул я их от ног, встать велел. Водки говорю, давайте. Эти на колени бух. «Прости – говорят, Великий брат, водки нет только самогон на томатной пасте». Простил. А что еще делать? Отхлебнул самогона, полегчало мне. Остатками рану на лбу, да шишку на затылке смазал. Жжет падла – градусов семьдесят.
- Ну, что – говорю – греховодники, зачем ждали, что от меня потребно?
- Так великий обряд свершить. Средний брат у нас помер.
И давай знак копья свершать, чуть в живот меня не пырнули.
- Отчитать, стало быть, надобно – говорю. - Много ли грешен был упокойничек?
- Не так, чтобы много, но один грешок у него был, и прямо надо сказать смертный. В молодости еще не стал он девчонку – сиротку пятилетнюю сильничать. Хоть и понять его можно – сиротка та дюже страшна была. Глаз один у ей вытек, лишай по всему телу, в волосах колтун, щеки ей крысы погрызли, нос сгрызли совсем. Но в Книге сказано: «Кого поймал, того и еби». Долго брат убивался, что словил это чучело. Все завтра обещал поступить по Завету. А девчонка-то возьми и помри с голодухи. Так и согрешил.
- Раскаялся, стало быть – говорю.
- Ох, раскаялся! Не то, что сироток, кошек всех в окрестных деревнях пересильничал. Святую жизнь вел. Уж и не хочется ему, уж мутит от насилья и крови. Примет мухоморовки святой и в деревню шасть. Под утро придет. Лик исцарапанный страшен, волосенки повыдерганы, ряса в кровищи, сил не то что святым знаком себя осенить, но и в постель упасть нетути. Постоит, постоит – рухнет на пол. Да и лежит так до ночи, до мухоморовки стало быть и радения. Лик у него аж в ночи посверкивать начал. И вроде бы в чертоги его святые, ан грешок-то остался. Смилуйся, святой отец, отмоли брата среднего!
На колени снова бухнулись, ноги лобзают. Я, стало быть, стою-думаю: «Молитв я не то, что ихних, никаких не знаю. Но это полбеды уж прогундосю нечто греховное. А вот ежели кошку ебать, да в деревне валенков нетути? Бяда…»
- Хватит – говорю – ноги мне лобзать. Всю уж грязь святую послизывали анафемы. Пойдем в скит ваш, глянем на упокойничка. Мало ли … В чертогах то тоже не каждой харе рады, мож и не к чему он там вовсе.
Скит оказался обыденный такой. Стена крепостная из почерневших за столетия лиственниц в пять человеческих ростов, ров, трапезная, спальная, да молельня почерневшая. Не то, чтобы я раньше в таких местах бывал, но фильмы-то из истории средних веков посматривал.
Прошли в трапезную. Там главный ихний хряпал, что-то на вид противное. Может и правда гадость какую, а мож это мне и показалось. Мне с перепою дурно всегда. От одного вида пищи проблеваться могу. А тут еще морда жирная потом и кровью лоснящаяся пальцами толстыми с ногтями грязными все это в рот пихает. Да еще и указательным пальцем вглубь проталкивает. Струганул я ему в кушанье прямо, а он ниче так, дальше жрет только глаза посверкивают. Доел, пальцы жирные о волосы сальные вытер, говорит:
- Что, отче, отчитаешь нам брата среднего? Доведешь его до чертогов? А мы уж тогда и почет тебе и уважение, и мешок печени лягушачьей сушеной, и все как по завету положено.
- Глянуть бы говорю на брата вашего, мож и не место ему в чертогах. Мож там от мерзости его все блевать начнут.
- Ты, отец, говори – говорит – да не заговаривайся. А то хрясну тебя сейчас половником, да и отпою потом обоих. Оптом дешевле – и ржет зараза, как раненный пони. А то и по другому спроворить можно… Поймаем мы тебя, да как по книге положено все и оформим. Результат – говорит - тот же будет, зато братии на лов никуда ходить не придется.
- Нет, уж – говорю. Неча меня ловить. Водки дайте ведро, да яиц вкрутую. Пойду, отпою к утру брата вашего среднего. Отчитаю за ночь, чище новорожденного будет.
- Ты сильно-то так не старайся. А то и правда дочитаешься. По книге-то, кто в лове ни разу не участвовал и чертогов недостоин. «И младенцы их, что во младенчестве померли, из чертогов тех изгнаны будут и жить им под полом с пауками и крысами.» - так ли отец святой в книге сказано? – и подмигивает мне глазом кровавым.
- Водку с яйцами тащите – ушел я от прямого ответа.
- Водки, стало быть, нет. Дадим самогона бурякового полчетверти и яичко одно воробьиное вкрутую. Так уж ты отец расстарайся. А то мало ли чё…
- Тащите уже самогон, яйцо, да рясу с книгою прихватите.
- Думаешь, надо там тебе чего будет? – мерзко оскалился старец. Ну, ну…
Прошли мы по двору заплеванному. На стене часовые алебардами в лунном свете посверкивают. Мыши летучие лунный диск пересекают. Тишина гробовая.
Мертвый, правда, был без косы. Посреди часовенки с копьем на куполе и пристроили его. Прямо на некрашеный, не струганный да замызганный кровью стол. Видок у него, надо сказать, был не очень. Ряса рваная вся. Сквозь рясу струпья на поросшем густым черным волосом теле просвечивают. Нога правая сломана. Аж кость торчит. Руки грязные в кулаки сжаты. В пальцах волосики белокурые тонкие, детские видать, сохранились. Лик кровав. Этим-то радетелям он мож и прекрасен. А я кровь, запекшуюся среди прыщей и струпной зелени не очень люблю.
- Где это так его угораздило? – спрашиваю.
- Так в Никольском вчера на радении – отвечают. Мы деревню то обложили, сироток по-быстрому наделали, и давай их ловить. Местные-то привычные особо и не разбегались, а Симеон городскую углядел, что к бабке на лето приехала. Он за ней, она в окно. Он в окно, она на улицу. В воротах за патлы было ухватил, вырвалась. Кинулся он за ней по улице, она на площадь. Он туда, она на колокольню. С колокольни и хряпнулся.
- Поймали?
- Знамо дело. Все по книге свершили. Да на колокольне и повесили. Слышишь?
Откуда-то из-за леса доносились звуки, которые мог бы издавать мешок картошки, ударяясь по колоколу под воздействием ветра.
- Ладно, вон пошли! Радеть буду.
Только дверь притворилась, я сразу начал яйцо воробьиное чистить. Что мела мне не дадут я сразу смекнул. А тут, пожалуйста, в чистом виде. Маловато, конечно, карбоната этого на воробьином яйце, ну да выбирать не приходится. Черчу, стало быть, круг на полу часовни заплеванном. Вдруг скрип сзади. Обернуться страшно, и не посмотреть, сил нет. Глянул. Сидит упокойничек на столе. Челюсть у него слегка отвалилась, скалится как-то не по доброму. «Что ж ты – говорит – самозванец, приперся-то сюда? Душу мою загубить хочешь? В чертоги не допустить?». У меня и язык парализовало, и сердцем чую говорить с ним нельзя. Молчу, круг чертить заканчиваю.
Он кость свою обломанную на прав