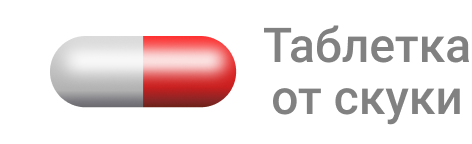Пока живу — помню. Каширин Н.А. 6. УДМУРТИЯ часть 1
Следующая глава из 3х частей
Автор мемуаров: Каширин Николай Аристархович 1918-1994
Озаглавлено: Пока живу — помню
1. АРЕСТ ч.1 http://pikabu.ru/story/poka_zhivu__pomnyu_kashirin_na_1arest...
ч.2 http://pikabu.ru/story/poka_zhivu__pomnyu_kashirin_na_1arest...
2. СПЕЦКОРПУС №1 http://pikabu.ru/story/poka_zhivu__pomnyu_kashirin_na_2spets...
3. ТЮРЬМА http://pikabu.ru/story/poka_zhivu__pomnyu_kashirin_na_3_tyur...
4. СМЕРТНЫЕ КАМЕРЫ http://pikabu.ru/story/poka_zhivu__pomnyu_kashirin_na_4_smer...
5. КАРГОПОЛЬЛАГ часть 1 http://pikabu.ru/story/poka_zhivu__pomnyu_kashirin_na_5_karg...
5. КАРГОПОЛЬЛАГ часть 2 http://pikabu.ru/story/poka_zhivu__pomnyu_kashirin_na_5_karg...
6. УДМУРТИЯ часть 1
Из Ерцево мы выехали 4-го мая 1942 года. Ехали очень медленно, на каждой станции пропуская воинские эшелоны. Наконец, прибыли в город Муром. Станция была забита воинскими составами. Наш эшелон затолкнули на какой-то дальний путь. На второй день рядом поставили еще один состав. В таких же телячьих вагонах, как и ниши, только двери открыты и окна не зарешечены. — ехали партизаны в новеньком обмундировании. На груди ордена, медали.
Напротив моего окна — открытая дверь. На чурбане садит партизан примерно моих лет и учится играть на аккордеоне явно зарубежного производства. Встретились глазами, разговорились. Он считал, это везут воров. Поняв свою ошибку, стал серьезным и сказал, что его дядю тоже взяли в 1937 году, и родственники до сих пор не знают, где он есть.
Еще он спросил, как нас кормят. Я ответил, что если будем ехать так, как сейчас, то к концу этапа сможем разве только ползать.
— Найди там шапку, привяжи ее к веревочке и бросай мне, — я тебе немного помогу, — сказал молодой партизан.
Мы тут же нашли шапку, веревочку: конец ее держу в руке, шапку бросил ему.
— Тащи, — крикнул он через минуту.
Я подтянул шапку к решетке окна, через отверстие протащил в вагон. Высыпал сухари, а он опять требует шапку. Я снова бросил ее ему. Вдоль всего нашего состава стояли партизаны, и наш эшелон таким же способом, как и я, «отоваривался» у них. Конвоиры с винтовками стояли молча, боялись вмешаться.
Видимо, доложили начальнику охраны эшелона старшему лейтенанту Павленко. Идет он — чистенький, руки за спиной, важный, что индюк. Я в это время тянул шапку с табаком. Павленко ударил рукой по шапке, веревочка оборвалась, шапка закатилась под вагон, табак рассыпался.
Мои «снабженец» встал с чурбака и врезал кулаком Павленко по затылку. Фуражка полетела вслед за шапкой, и сам Павленко, вытянув руки, ударился о вагон. Выпрямившись, он схватился за пистолет, но в дверях вагона появился другой партизан и навел на Павленко автомат.
Стой, Вася, не стреляй! — крикнул ему мой новый знакомый. — Пусть он соберет всю махорку до крупинки! За спиной заключенных шкуру спасаешь, сволочь? Да знаешь ли ты, гад, что любой из тех, кого ты конвоируешь, стоит на фронте десятка таких, как ты?
Не знаю, что было бы, если б не прибежал начальник нашего эшелона старый чекист Михайлов. Тихо и зло он бросил Павленко:
— Иди отсюда сейчас же, дурак! — а сам спокойно стал разговаривать с партизанами. Инцидент был исчерпан, вновь пошло «отоваривание».
Рано утрам завыли сирены, заработали зенитки: немцы бомбили мост через Оку. Минут через сорок после отбоя к нашему составу прицепился паровоз. Начальство не было уверено в прочности моста после бомбежки, нужно было проверить это, прогнав по нему состав с малоценным грузом. Понятно, выбор пал на нас. Не велика беда, если утонет тысяча «врагов народа»!
Трое суток до Казани нас не кормили и не поили. Хорошо, на второй день прошей небольшой дождик — с крыши вагона набрали по глотку каждому.
Во второй половине мая мы выгрузились на станции Лынга в Удмуртии. Здесь находился штаб Лынгинской исправительно-трудовой колонии. Баня почему-то находилась за зоной. После мытья нас направили в лес. Километрах в шести от станции был вырублен участок в форме квадрата 500 на 500 метров. На территории в штабелях — дрова, в кучах — сучья.
Начальник командировки Коренюк объяснил, что здесь мы будем жить и заготавливать дрова для эвакуированных в Удмуртию военных заводов. На территории колонии стояли два барака: один большой, старый и один новый, поменьше. Я с другом определился на чердаке нового барака. Два дня нам дали на изготовление временного жилья. Стали строить землянки, балаганы. На трений день укомплектовывались лесорубные и плотничьи бригады, которые прежде всего огородили зону — узкоколейная дорога еще ранее была проведена на ее территорию.
На чердаке поместилась бригада грузчиков. Они грузили дрова на вагонетки и мотовозом отправляли их на Лынгу, где дрова перегружали в вагоны широкой колеи и увозили в Ижевск.
Я пристроился в этой бригаде дневальным, думал в будущем работать в ней грузчиком: все-таки легче, чем на лесоповале.
Примерно в конце июня укомплектовывалась бригада пятнадцатитысячников: шесть лесорубов, которые обязались напилить за год пятнадцать тысяч кубометров дров. В бригаде было пять звеньев, и нужно было создать шестое. Кто-то и проговорился начальнику обо мне. Вызвали меня и предложили создать шестое звено.
Я знал одного отличного лесоруба Басырова, вместе с ним мы и подобрали еще четырех хороших лесорубов. В первый же выход в лес наше звено опередило всех по количеству заготовленных дров и держало первенство, пока существовала бригада, — в этом мы имели свой интерес.
Во-первых, нам каждое утро на разводе выдавали по пять граммов табаку. Один у, нас не курил: так что при некоторой экономии нам хватало. Во-вторых, нашему звену выдавалось по 500—600 граммов творогу на человека — другие звенья получали по 300—400 граммов. Кроме этого ежедневно Коренюк выделял 6—7 человек бесконвойных, которые ходили по речкам и водоемам, приносили по два—три ведра двухстворчатых ракушек, содержимое которых сбрасывалось в общий котел. Можно было жить и работать.
С Лынги доходили слухи о тяжелейших условиях работы погрузотряда. В первых числах каждого месяца начальник лынгинской командировки Зайцев приезжал к нам и отбирал в погрузотряд заключенных. Коренюк старался подольше задержать его в кабинете, а в это время нарядчик и комендант отправляли с десяток лучших лесорубов в больницу, где для нас были приготовлены койки. Остальных под видом грузчиков выпроваживали в ночь на погрузку вагонеток. Так Коренюк старался сохранить бригад пятнадцатитысячников.
В октябре 42-го пришел приказ снизить котловое довольствие заключенных до 80 граммов крупы и пяти граммов растительного масла с сутки.
Оскудел общий котел, бесконвойные прекратили ходить за ракушками, вода в водоемах уже была ледяной, молокозавод отказал в твороге. Бригада пятнадцатитысячников перестала существовать.
Баланда стала жидкой, хлеб теперь выпекали из овсяной муки и, конечно, не просеянной: выпеченный хлеб походил на ежа — остья овса при выпечке подымались с его поверхности.
Люди стали слабеть. Начальник определил меня помощником механика электростанции, которая не работала. Механик, латыш Ян, — мастер на все руки. Он свободно ходил к вольнонаемным, делал им слесарные и столярные работы, а платили ему кусочком хлеба, картофельными очистками, которые мы варили на электростанции.
Ян научил меня делать иголки: самые обыкновенные, которыми чинят одежду. Иглы у вольных имели большой спрос, Ян также обменивал их на хлеб и картофельные очистки.
Однажды в первых числах ноября я задержался на электростанции до отбоя. Когда шел в свой барак, было уже темно. Вдруг навстречу двое. Меня ослепили светом электрического фонарика:
— Как фамилия, имя, отчество?
Я ответил. Только в бараке я понял, что встретил меня начальник лынгинской командировки Зайцев.
Утром вместе еще с 14 заключенными я был этапирован на Лынгу, в погрузотряд. Нас соединили с оставшимися в живых грузчиками — людьми бледными, испитыми. Было видно, что скоро они выйдут в «тираж». В первых числах каждого месяца погрузотряд за счет других командировок вырастал до 60 человек, а к концу месяца в нем оставалось человек двадцать...
Отряд занимал большую секцию в одном из бараков. На работу его вызывали двумя гудками электростанции в любое время суток, как только с соседней станции приходил порожняк. Приносили из сушилки одежду, одевались и шли на вахту. Иногда выходили по четыре раза в сутки. А в трех составах 90 вагонов, на каждого грузчика — по полтора. Загрузить состав требовалось за 5—6 часов, времени на сон оставалось мало. Порой придем ночью, сдадим одежду в сушилку: телогрейки, брюки от пота и снега совершенно мокрые. Поужинаем. Только приляжем заснуть — электростанция дает два гудка. Это вызов на погрузку.
Морозы зимой 1942—43 года были сильные. Грузишь вагон: сам в поту, а ноги мерзнут. Многие морозили пальцы ног и рук, но освобождения от работы не получали до тех пор, пока конечности не начинали гнить. Эти люди уже не возвращались ни в погрузотряд, ни к жизни. Один грузчик нечаянно или с намерением отрубил себе на левой руке указательный и средний пальцы. Его так же выталкивали на работу, пока не опухла вся рука. Умер он в больнице от заражения крови.
Драматичны были ночные выводы погрузотряда на работу. Услышав гудки, некоторые быстро одевались и прятались: кто залезет в чужой барак под нары, кто закапывается в снегу. При выходе через вахту обнаруживалось, что многих не хватает. Стоим, ждем, а в зоне начинается так называемая «трелевка». Два коменданта, нарядчик — подключали и пожарников — находят спрятавшихся, выволакивают из-под нар, из снега, двое берут его за ноги и бегом «трелюют» его к вахте — только голова постукивает на обледенелых неровностях. Подтащат, поставят на ноги, шапку на голову и выкидывают за вахту.
Вы видели, как плачут мужчины? Нет, вы этого не видели. Стоит он, прислонившись к стойке нар: по щекам текут слезы, а в глазах — непреодолимая безысходность и смертельная тоска. Он видит свой конец и плачет беззвучно. На такое страшно смотреть.
Питание не компенсировало затраченной энергии грузчиков, работали на износ. Каждый знал, что его ждет. Больше двух месяцев люди не выдерживали. Очередной мученик закончит погрузку, а идти уже не может — в зону его несем. Еще раза два выгонят его на погрузку, но работать он уже не может. Обратно снова несем на руках. Бывает, носим сразу трех-четырех человек. Так и носим, пока медкомиссия не «сактирует» их, или по лагерному, не «спишет». И дожидается он своего последнего часа в специальном бараке.
Может, я был покрепче или помоложе других — в 42-м мне исполнилось 24 года, но продержался я рекордное время — три с половиной месяца.
Где-то во второй половине февраля принесли с работы и меня. Решил я на работу больше не выходить. Выйти только затем, чтобы меня носили мои товарищи — нечестно по отношению к ним. Все равно умру — другого выхода нет. Какая разница: через пару недель своей смертью или оперуполномоченный за саботаж загонит мне в голову 9 граммов свинца уже сегодня.
Принесли меня вечером, а через два часа — снова выход на работу. Слез я с нар, захватил свои вещи, принесенные из сушилки, и снова залез на нары. Слышу, во дворе началась «трелевка». В барак вошел старший комендант, ингуш Гусейн Тлапшаков, увидел меня:
— Почему не вышел на работу?
— Меня, Гусейн, сегодня принесли. Я свое отработал.
— Да брось ты, — сам встал на нижние нары, стараясь схватить меня за ногу,
— Предупреждаю, Гусейн, — не трожь!
— Да брось! — и животам перевалился на верхние нары,
Я сел, поджав ноги, — он почти дотянулся до них. Позади была полка, где хранилась моя посуда. Правой рукой через левое плечо я нащупал большую металлическую чашку с приваренным дном, и только Тлапшаков открылся, протянув руку к моей ноге, что было силы дарил его этой чашкой в лоб.
На пол он упал навзничь. Потом перевернулся на живот, закрыл лоб рукой: по ней тенет кровь. Поднялся и сел к столу. В барак вошел нарядчик Минька Дорогин:
— Гусейн, что с тобой?
— Вон, Каширин, угостил,
— Ну, что же, будем писать акт и передадим его оперуполномоченному.
Я понял, что к утру меня уже не будет. Для того, чтобы уничтожить заключенного, достаточно указать в акте: саботаж. Если же приплюсуется и нападение на коменданта, то оперуполномоченный и двух пуль не пожалеет.
Так бы оно и было. Но служилось нечто невероятное, чего я до сих пор не могу объяснить. В барак вошел главврач командировки. И днем-то он никогда не бывал у нас. Что привело его сюда ночью?
— Вы что тут за петицию пишете? — спросил главврач Дорогина.
Дорогин доложил.
— Ты, Тлапшаков, иди в санчасть, там тебе обработают рану, а ты (это уже мне) слезай. Да оставь чашку! Я с тобой драться не буду.
Я слез с нар, сел за стол. Главврач подал мне градусник, минут через пять посмотрел на него и сказал Доронину:
— Выбрось свою писанину человек больной.
Так во второй раз в жизни я ушел от пули.
Грузчики вернулись под утро, но через час снова прозвучал вызов на погрузку.
Дорогин пришел в барак и тихо спросил меня:
— Ты пойдешь на погрузку?
— Нет, — отвечаю.
— Тогда собирайся и иди в карцер. Скажешь старику, что я велел, он тебя пустит.
В то время попасть в карцер на 300 граммов хлеба и стакан воды в сутки считалось счастьем. Я просидел в карцере пять суток, на шестые Дорогин повел меня к новому начальнику.
За это бремя Зайцева призвали на фронт вместе с заключенными по бытовым статьям. Нас, осужденных по 58-й, на фронт не брали. Впоследствии мы узнали, что по дороге к фронту его убили и на ходу поезда выбросили из вагона.
Дорогин сказал новому начальнику, что я был хорошим грузчиком, но сейчас ослаб.
— Пусть отдохнет 10 суток, прикажи выписывать, ему паек грузчика.
Через 10 дней я вышел на работу, но сил хватило лишь на два дня. Я сдал окончательно. Медкомиссия «списала» меня с диагнозом дистрофия. Бог знает какой степени и туберкулез. Последнее не подтвердилось, иначе мне оттуда бы не выбраться.
Для «списанных» или «сактированных» существовал отдельный барак. Довольствие в нём: 400 граммов хлеба и два раза в день мутная жидкая баланда. Умирали здесь, в основном, ночью: уснет человек и не проснется. Ближайшие «кандидаты» на тот свет дня за два облепляли печь со всех сторон, устраивали ссоры за место у нее. Ссорились без крика: кричать у них уже не было сил, — слегка потолкаются плечами, тот, кто послабее, заплачет и уступит. И еще (это было заменено раньше меня, я только убедился в этом) — примерно за, день до смерти, человек начинает гнусавить. Когда услышишь это, уже знаешь, что завтра он может не проснуться…
Утрам санитары выносили мертвых в сарай, что стоял между нашим бараком и больницей. Из больницы трупы тоже выносили туда. Так за сутки в сарае набивалось 15—20 покойников.
Вечером после отбоя завхоз больницы Михеич и дворовый рабочий подгоняли коня, запряженного в сани-розвальни, грузили покойников штабелем, как дрова. Совершенно нагих, с жестяной биркой с выбитым номером, привязанной лычкой к ноге. Везут в лес, где с осени выкопаны большие ямы, и скидывают в них трупы. У некоторых умерших оставались личные вещи. Михеич менял их у вольных на продукты, табак и «кумышку» — так в Удмуртии назывался самогон. Каждый вечер при погрузке я выходил из барака и между нами происходил примерно такой разговор:
— Здравствуй, Михеич!
— Здравствуй, Коля! Ползаешь еще?
— Ползаю, Михеич.
— Недели две ты еще протянешь.
— Нет, Михеич, думаю, месяц.
— Я говорю — две недели, это уж точно.
— Ошибаешься, Михеич, месяц.
— Давай спорить!
— Давай. Что ты мне дашь, если я протяну месяц?
— Я тебе, дам три пачки табаку. А ты мне что?
— Если я не протяну месяц, оставлю тебе, Михеич, в наследство святейший престол папы римского.
— Ого! Годится! Ну иди, закурим.
Он знал, что за этим я и вышел из барака. Закурим, он мне еще отсыплет: немного табаку на день — я и обеспечен до следующего вечера.
— Сколько сегодня, Михеич?
— Сегодня мало, Коля, — одиннадцать покойников.
— Снимут тебя с работы, Михеич.
— За что?
— План не выполняешь,
— Эх, Коля, лучше бы этого плана совсем не было. Знаешь, что творится там, в ямах? Зверье расплодилось за войну: объедают в лесу вашего брата.
— Да что есть-то, Михеич, ведь одни, кости да кожа?
— Не скажи, Коля. Разгрызают живот, выедают внутренности, обгрызают лицо, ягодицы. Вот сейчас будем подъезжать к яме, они выскочат из нее и убегут. А уедем, они тут же появятся па «свежатинку».
Действительно, пока яма не заполнена доверху, закапывать ее нельзя, — а то на зиму ям не хватит.