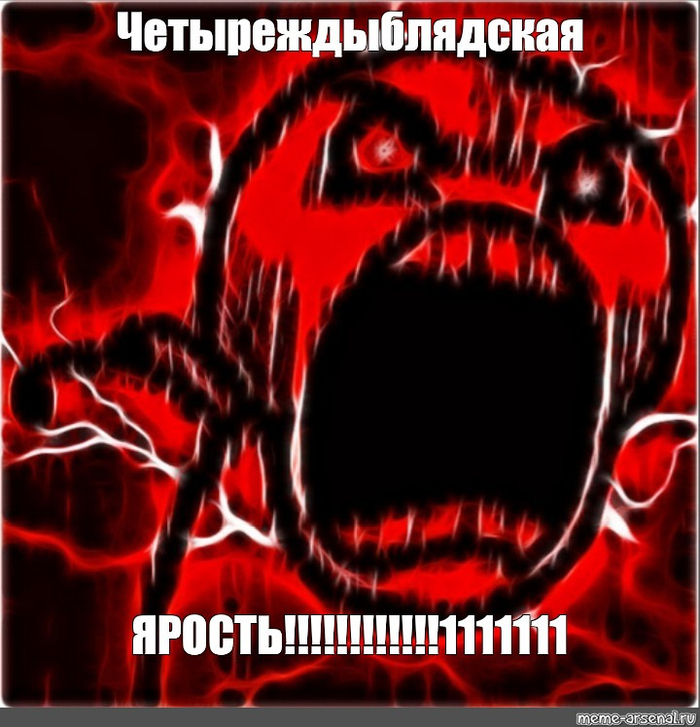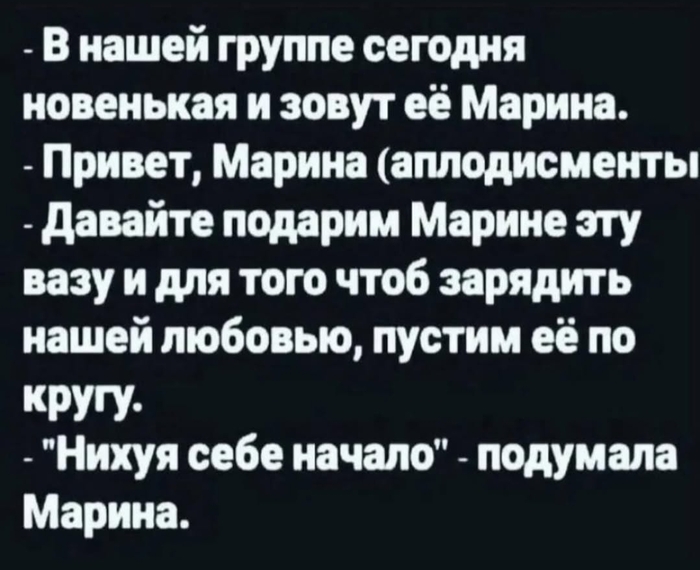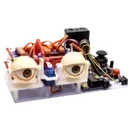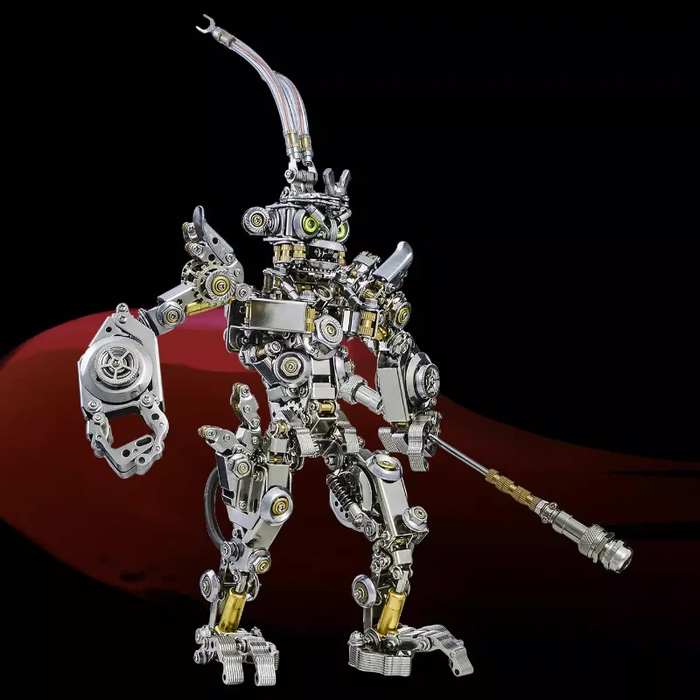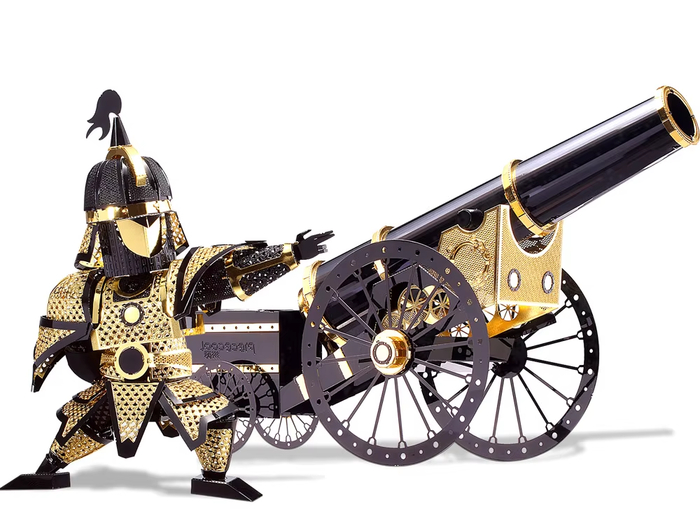— Мам, а что ты помнишь о Мурюке? — спросила я, наливая кофе.
— Ничего. — ответила мама.
— Совсем-совмем ничего? Как это? — я была поражена, ведь сама я помню каждую деталь, каждого жителя, каждый день, проведённый в маленьком посёлке на краю вселенной, затерянном в параллельном нам мире тайги. — А я все помню. Знаешь, я сейчас рассказы пишу о Мурюке. Мистические.
— Мистические? А что в Мурюке было мистического? Когда мы уехали, я вычеркнула все это из памяти. Как не было.
Задумавшись, я поняла почему так. Мурюк никогда не был для мамы тем, чем он был для меня или для отца. Горожанка, она не приняла его и воспринимала как что-то временное. Об этом говорит хотя бы то, что она не перешла с каблуков на плоскую подошву, хотя по насыпной дороге из щебня такая ходьба была не просто неудобна, но и сродни эквилибристике. Об этом же говорит её тушь и пудра "ланком", покупаемая в ГУМе во время визитов в лоно цивилизации, тщательно хранимая, но используемая ежедневно. Нет, мама не приняла Мурюк, а тот её. В тайгу же мама не ходила вовсе. Мама не слышала местных сказок и легенд, а, может, и слышала, но не придавала им никакого значения. Ей было тяжело, моей хрупкой молоденькой моднице-маме. Тяжело учиться топить дровами, готовить на печи, самой месить хлеб, ходить на работу в школу за много километров. Глухой лес, странные люди, все, абсолютно все чужое, и жизнь от отпуска до отпуска.
Я закрываю глаза и мысленно гуляю по призрачным улицам, оставшимся лишь в моей памяти и на редких фото. Мне не нужно напрягать память, чтобы разглядеть молодой папоротник вдоль дороги или склон сопки сразу за нашим огородом. Я делаю вдох и вместе с воздухом возвращаю себе смешанный аромат хвои и медуницы, с примесью болотных трав и ноткой чеснока, так пахнет колба.
Мама не помнит. Другое дело отец. Жаль, что я никогда не спрашивала его об этом, а теперь уже поздно. С верой тоже самое. Папе не нужно было верить, он знал. Как и я.
Мы брали удочки и шли вверх по реке. Не по Китату, по другой, название ее я никогда не знала. Река была невиданной. Глубокая, с низкими берегами, шириной метра три, незаболоченная и незаросшая. Странная река, никогда больше таких не встречала. В отличае от прозрачного Китата, эта река была молочно-бирюзовой. Купаться в ней я бы не стала, а вот удить рыбу было одно удовольствие. Мы шли вдоль правого берега, останавливаясь и забрасывая удочки. Почти не разговаривали. Рыбы было много. Иногда присаживались отдохнуть. Папа закуривал и смотрел на застывшую воду, а я слушала песни кикимор. Это была наша с ним реальность — река, красные кроны ольхи и поющие перед долгим зимним сном кикиморы.
У мамы была другая реальность. Отстирывать в тазике наши запачканные травяным соком штаны и свитера, кипятить воду в аллюминевом баке на печи, и раздевать нас, тревожно осматривая каждый сантиметр наших тел в поиске клещей.
Помню, грибы мы собирали не в корзины, корзин в Мурюке я вообще не видела, а в деревянные кузовки с ручкой, наподобие тех, в которых хранят плотницкий инструмент. Однажды отец притащил из леса два кузовка мухаморов. Мама ругалась и заставила выбросить весь улов. Папа недоумевал. Мама знала, что мухоморы ядовиты, так её учили с детства. Папа вырос в центре Еревана, и о существовании грибов узнал лишь в Мурюке, но точно знал, что неделю назад Васька набрал таких же грибов, нажарил сковородку и жив-живехонек. Мама же одобряла лишь опята и грузди, потому что её учили их готовить. Про возможные побочные эффекты от мухоморов не знал никто, а о галлюцинациях подавно.
Потом рассказывали, как Васька Получëрт ходил за грибами, под грибы приобрёл самогонки и напился до горячки. Ушел в тайгу, где был изловлен на третьи сутки абсолютно голым и синим, так как ударили первые сентябрьские морозы. Васька Получëрт божился, что ни в какой тайге он не был, а бродил в полях, среди серебряной травы, плутая в густом тумане, и вышел на берег широкой белой реки. Он стоял над водой, а из тумана появлялись фигуры, множество фигур. Там были люди, лайки, медведи, лосиха с выводком, рысь и пара волков. Далеко в поле показалась движущаяся гора, и приближаясь, гора превращалась в мамонта, живого мамонта, как из книжки, и он ждал, когда мамонт подойдет ближе, чтобы лучше его рассмотреть, но тут его скрутили. Тщедушный Васька Получëрт отбивался, кусался и царапал обидчиков, и плакал как ребенок, уткнувшись в сено, замотанный в тулуп и погруженный на телегу.
Я верю Ваське. И папа верил Ваське, ведь он как и я слышал песни кикимор.
Мама не помнит Мурюк, как помню его я. Мурюк для мамы означал тяжёлые времена. И мне жаль, что больше нет папы, и мне не с кем вспоминать Ваську и кикимор сейчас, когда трудные времена у меня.