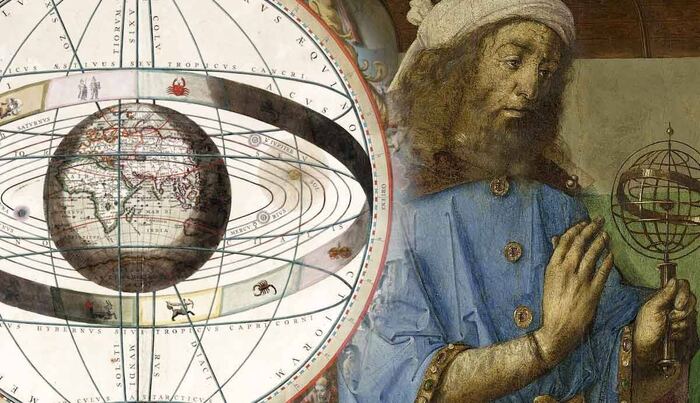«Неспокойно лежащие мертвецы» Исландии
Исландия — остров в Северном Ледовитом океане, колонизировавшийся в течение длительного времени с конца IX в. н.э. Благодаря ряду специфических особенностей, как то: развитая судебная система, весьма ограниченные природные ресурсы и смешанный социально состав первопоселенцев, можно говорить о возникновении весьма специфического общественного строя. Как правило, в современной историографии для описания данного строя ограничиваются термином «раннесредневековое государство» или «Icelandic commonweath» (чаще всего переводится как «Исландия времен народовластия»), сочетающем в себе как ранние архаичные черты, так и поздние протогосударственные.
На стыке X и XI веков островное общество претерпело определенные комплексные изменения, толчком к которым являлось принятие христианства на тинге 1000 года. Согласно традиционным отечественным представлениям, важным индикатором этих изменений является археологический материал, в частности — погребения. Таким образом, для полноценного понимания изменений являются важными раннеисландские погребальные практики.
Важным и отличным от остальных скандинавских комплексным явлением, сопутствующим погребению, являлся миф об «оживших мертвецах», известных по сагам как draugr или aptrgangr.
По дошедшим до нас через саги верованиям исландцев, умерший мог после смерти обитать в районе места своего погребения. Некоторые варианты «обитания», как правило, в «зачарованных» холмах (таких мёртвых называли «обитателями холма» или «обитателями кургана», haugbúi/moldbúi) были нейтральными [Картамышева, 2002, с. 96–101]. При других же, когда мёртвые, именующиеся draugr, вставали из могил и начинали «ходить после смерти» (ganga aftr) [Картамышева, 2002, с. 96–101], то есть бродить по округе и нарушать спокойствие живых, героям саг приходилось бороться с представителями иного мира.
Термин draugr довольно расплывчат и родственен, в частности, древнеирландскому auddrach (призрак) и индогерманскому dreugh («вредить», «обманывать») [Картамышева, 2008, c. 55]. Древнеисландское наиболее точное значение этого слова — «призрак с неясными очертаниями», как правило, на русский термин переводится «мертвецом» или «призраком» [Картамышева, 2008, с. 55]. Само верование в оживающих и «ходящих после смерти» мёртвых людей, возникло и развивалось сугубо на острове. Сама тематика «неспокойно лежащих мертвецов» возникла на острове достаточно рано (так, согласно А.В. Циммерлингу, Сага о битве на Пустоши относится к одной из наиболее древних из записанных, датируясь началом XIII века [Циммерлинг, 2000, с. 319–320]) и пережила Средневековье, дойдя до Нового времени уже в виде рим (как сага о Хромунде сыне Грипа) — прозаических пересказов сюжетов исландских саг.
Стоит отметить, что (по состоянию на настоящий момент), несмотря на неугасающий интерес к истории ранней Исландии, не было опубликовано ни единой статьи, цельно описывающей погребальный обряд. Тем не менее, так или иначе эта тема, прямо или косвенно, затрагивается в работах как отечественных исследователей [Гуревич, 2006; Картамышева, 2006], так и зарубежных [Байок, 2012].
Draugr, согласно сюжетам исландских саг, перед своим «возрождением», не обязательно погибал насильственной смертью, однако причины преобразования обычного покойного в «ожившего» умалчивались. Гораздо подробнее описывалась их трансформация в антропоморфное, подверженное первоначальным некротическим изменениям существо, обладающее недюжинными весом и силой, а кроме того — мистическими способностями. Впрочем, драуги нередко вступали в контакты с живыми (иногда еще до погребения) [Картамышева, 2008, с. 58], слагая перед испуганными свидетелями висы или же требуя что-то совершить — так, покойный Стюр Убийца произнес перед любопытствующей девушкой вису, чем вверг её в безумие [Сага о битве на Пустоши, глава VIII]. В целом описание как модели поведения draugr, так и отношения к нему живых сильно разнилось от саги к саге [Картамышева, 2008, с. 60].
Важным индикатором вероятности оживления человека являлось последовательное увеличение его веса после смерти. Иногда это происходило прямо по пути к месту отпевания или погребения. Так, в «Саге о битве на Пустоши» [Сага о битве на Пустоши, главы VII–IX] тело хёдвинга Стюра Убийцы по пути к построенной им церкви для похорон начинает тяжелеть после того, как сопровождающие при переходе реки и ночлеге начинают обращаться с телом как с вещью, никогда не бывшей человеком — тащить волоком, сушить у камина.
При этом животные начинали беспокоиться и неистовствовать рядом с телом. Характерно, что как правило, реагировали на будущего draugr священные для исландского язычества лошади и собаки. Ожив, покойник увеличивался в размерах и менялся в цвете на чёрный или синий, при этом нередко сравнивался с владычицей царства мёртвых Хель [Картамышева, 2008, с. 59]. При этом цвет указывает на мистичность, потусторонность существа, некогда бывшего живым человеком. Иногда в сагах встречается сюжет восставания из мертвых не в антропоморфных формах, а в животных, как правило — в образе коровы или тюленя.
В сагах никогда не говорится о draugr, как о мертвеце: он называется «не спокойно лежащим», «Гламом (имя героя), которому не лежится в могиле»[Сага о Греттире, XXXII, XXXIIII], «встававшим из могилы» [Сага о людях с Лососьей Долины, XVII] и так далее. Герои, побеждавшие драуга, именно убивали его [Сага о Греттире, XXXV], при этом не говорилось, что они убивали человека: они убивали того, кто когда-то был человеком и до сих пор носил его имя. Само понятие draugr, имея довольно много свойств, никак не было связанно с человеком. Таким образом, проводилась чёткая дифференциация: несмотря на то, что существо было похоже на человека и иногда даже говорило, и хотя упоминалось как человек, maðr, всячески подчеркивались и вторичные внешние признаки, позволявшие говорить о нём как о мистическом существе, в которое этот умерший человек переродился [Картамышева, 2008, с. 57].
Впоследствии содержание понятия смешалось с понятием haugbui, «обитателем кургана» — уже в «Саге о Хромунде сыне Грипа», датированной Стеблин-Каменским не раньше XIII века, типичный «обитатель кургана» поименован как draugr [Сага о Хромунде сыне Грипа, III–IV], и имеет описание как несомненно антропоморфного существа с потусторонними изменениями (скрюченные руки и длинные когти). Характерно, что Хромунд расправляется с ним одним из способов, с помощью которых в сагах справлялись исландцы с ожившими покойниками — отрубив голову.
Верования о draugr дожили до времен классического Средневековья, смешиваясь с христианскими верованиями. Так, известная по рукописи XIV века «Прядь о Торстейне Морозе» повествует об исландце Торстейне, при дворе Олава Трюггвасона повстречавшего ночью черта. При этом чёрт, прогнанный колокольным звоном, имеет множество характерных наименований, и имя «Draug» встречается среди них пять раз (в форме draugr), а себя черт характеризует как Торкеля Тощего, погибшего в VIII веке легендарного конунга [О Торстейне Морозе].
Борьба с «оживанием» мертвых занимала в погребальном обряде весьма важную роль, начинаясь после смерти человека. В реалиях раннесредневековой Исландии стоит отметить различия между языческими похоронами и христианскими. Ключевыми деталями погребального обряда являются как непосредственно обряд погребения так и сопутствующие ритуалы, а также — постпогребальные обряды.
Письменные источники не указывают на некий обязательный и фиксированный временной отрезок, отделяющий смерть человека от его погребения. Однако, именно в это время покойного переодевали в лучшую из доступных одежд и обрезали ногти. Последнее описывает исландский писатель Снорри Стурлсон, указывая в качестве причины деталь мифа о конце времен (Рагнарёке) — корабле, созданном из ногтей мёртвых (Нагльфар), и вмещавшего армию Хель [Гербер, 2012]. После этого тело заворачивали в полотно. В этой части отсутствуют как различия между языческим и христианским обрядом (за исключением небольшой тризны в языческом варианте или отпевания — в христианском).
Далее тело клали в гроб (если умерший был христианином), или в миниатюрную лодку (если был язычником). Стоит отметить, что для некоторых исландских христианских погребений, в частности, кладбища хутора Хрисбрю, характерно наличие лодочек вместо гробов [Bayock et all, 2005, с. 215] — несомненно языческого признака. Ориентацию могил христиан можно характеризовать однозначно (лицом на восток с нюансами, о которых будет сказано ниже), язычники как правило ногами на запад [Zugiar, 2012 с. 11–15], но при этом — обязательно ногами от фермы. Уже в христианские времена появились небольшие хуторские кладбища. В отличии от континентальных скандинавских погребений [Лебедев 1974; Петрухин, 1976] и даже островных оркнейских [Барнс, 2012], раннеисландсский посмертный инвентарь довольно беден. Как правило, он включал в себя обереги и иные мелкие вещи, принадлежащие умершему. Практика положения в гроб/лодку меча и иных воинских атрибутов в Исландии не прижилась.
Нередко на грудь умершему помещался большой тяжелый камень, иногда проламывавший грудную клетку (что было призвано помешать покойнику встать в случае оживления), после чего могильная яма засыпалась грунтом, а сверху насыпалась объемная каменистая насыпь — каэрн, по сагам известный как kumbldys, «отмеченный dys», маленькая пирамидка из камней [Cleasby R., Gudbrand, 1957. P. 358]. Насыпь, наряду с вышеупомянутым камнем, по некоторым предположениям, являлась одной из преград для оживших мертвецов. При погребениях язычника в жертву приносились животные — лошади и собаки [Байок, 2012 с. 448–449; Byock, Zori 2012, с. 7; Гуревич, 2006].
Кроме телоположения, в Исландии присутствовала кремация тел. На данный момент достоверно известен всего один кремационный холм (Хулдухьолл в Хрисбрю) [Byock et all, 2005], однако он хорошо исследован в течении исследований 1995–2012 годов, что позволяет реконструировать ритуал кремации. Для обряда использовался обособленно стоящий высокий холм. На его вершине выстилалась гравийная подушка, на которую помещали тела умершего и жертвенных животных вместе с хворостом и дровами [Byock, Zori 2012, с. 7,]. Подошва холма была огорожена крупными плоскими камнями. Вероятно, гравий препятствовал разлету золы и пепла по местности, а также визуально выделял вершину холма [Byock, Zori 2012, с. 5, 17, 21]. Верхняя граница крайних телосожжений довольно расплывчата, на данный момент она локализована в пределах 970–1020 годов [Byock et all, 2005, с. 216].
Стоит, однако, отметить, что степень распространения обряда кремации на острове является крайне неопределенной, в частности — из-за недостатка имеющегося материала. Тем не менее, принимая во внимание логическую цельность и завершенность памятника в Хрисбрю, можно предположить, что кремация была как минимум умеренно распространена на территории Исландии.
Кремация являлась одним из известнейших погребальных ритуалов, широко распространенных по миру. Изначально будучи сакральным путем проведения погребального ритуала, впоследствии кремация превратилась в еще один уровень защиты от «оживших мертвецов» — сожженные до золы тела не могли ожить и навредить живым, особенно если пепел топили или закапывали в глухом месте [Картамышева, 2008, с. 60; Петрухин].
В некоторых случаях строилась очень высокая стена, которая должна была препятствовать draugr [Сага о людях с Песчаного Берега, XXXIV]. Иногда могилы устраивались в глухом месте, в которое не заходили ни люди, ни животные. Кроме того, умерших старались хоронить ногами от дома или фермы, чтобы они, ожив, шли от жилища, а не к нему. Стоит отметить, что для могил яркого комплексного христианского кладбища в хуторе Хрисбрю характерна вполне «языческая» защитная ориентация могил: ногами на восток и мимо «длинного дома» [Саенко, 2015, с. 147]. Затем на грудь ложился большой и тяжелый камень, придавливавший тело [Картамышева, 2008, с. 58], а поверх земли насыпался каменистый каэрн, который также играл защитную роль [Картамышева, 2002, с. 96–101]. Распространенным являлся и обряд вбивания мертвецу деревянного кола в грудь, именуемого helskor, «ногой Хель» [Картамышева, 2008, с. 58]. Нередко жившие на хуторах люди полагались только на свою силу и отвагу в попытках «упокоить» draugr. Ярким примером подобного сюжета является «Сага о Греттире», в которой главный герой в борьбе с пастухом Гламом, превратившимся в драуга и терроризировавшим округу, едва не погибает сам и сильно повреждает дом, но в итоге убивает противника. [Сага о Греттире, XXXV]
Сохранившиеся данные позволяют сказать с уверенностью, что в христианское время эти представления сохранились, но способы защиты несколько трансформировались. Так, защита «ориентацией телоположения» и каэрном сохранилась, о чём с уверенностью можно сказать по результатам ряда [Байок, Зори, 2013, c. 126, 129–131] археологических находок.
Таким образом, можно сделать ряд выводов. Во-первых, сам сюжет «оживающего мертвеца» следует признать локальным, созданным в Исландии, хотя действие саг, в которых фигурируют драуги, происходят и в континентальной Скандинавии [Сага о Хромунде сыне Грипа]. Во-вторых, раннеисландский погребальный обряд включал в себя множество элементов, призванных обезопасить живых людей, как то: физическое уничтожение тела, ориентирование могилы от жилья и навалка каменистой насыпи над ней, и так далее. В-третьих, языческое телосожжение с возможным развеиванием или утоплением пепла с христианизацией острова было вытеснено христианским обычаем отпевания, однако в целом христианские ритуалы лишь дополняли языческие. Так, в саге о Греттире главный герой не решается послать за священником после битвы с draugr, а вместе с хозяином хутора расчленяет тело и сжигает его на погребальном костре до пепла [Сага о Греттире, XXXV]. И наконец, базировавшийся на архаических верованиях мотив оказался необычайно стойким — некоторые саги, включавшие в себя сюжет с «ожившими мертвецами» являются достаточно поздними — так, Grettis saga датировалась Стеблин-Каменским XIV веком [Стеблин-Каменский, 1976], а впоследствии сюжет смешался с другими похожими темами, в частности — с сюжетом об «обитателе кургана».