Тема сочинения – как я провёл это лето – или – лучшие впечатления моего детства – парила Петрова уже неделю.
Петров был сухой, согбенный мальчик, прыщавый, рыжеватый. Его впечатлений хватило бы, чтобы взорвать Красноярскую ГЭС.
Но с изложением впечатлений была проблема. Слова вечно ускользали, терялись, менялись местами, словно бы издеваясь над ним, путая и вводя его в напасть и бездонный стыд.
Слова мучили Петрова. Ему не давались.
Петров жил с бабушкой – молодой, шикарной, эксцентричной, уверенной в себе женщиной. Мать Петрова забрала сестру и укатила на юга. Не то чтобы ей на Петрова было плевать, но ей владели какие-то собственные иллюзии.
С бабушкой они жили в огромном сталинском доме на центральной улице, которая прямо, как стрела, спускалась к огромной синей сибирской реке.
Училка была вредная, злобная, строгая, старорежимная, - страшно было не написать ей. При этом Петров числился умным и это было бы просто позорно.
Я с детства любил это имя – Люсенька. Не то чтобы с этим именем потом были связаны какие-то события моей жизни... или вернее - были связаны какие-то значимые события моей жизни.
Но дело в том, что это имя так или иначе всю мою жизнь меня преследовало.
Помню себя совсем маленьким, и я прошусь к Люсеньке. Люсенька – соседка моих бабушки и дедушки, девушка, у которой есть пианино. Пианино огромное, чёрное. Я забираюсь на стул, самозабвенно нажимаю клавиши. Люсенька где-то рядом. Вроде бы я увлечён пианино, а не ей. Мне два или полтретьего, черт. Я знаю это, потому что потом мы уехали, и уже больше никогда не вернулись в то место.
Бабуля каждую ночь поет мне, и я думаю, что она это сочиняет на ходу. Другое не приходит мне в голову.
Все это было до двух, - ну, до полтретьего; я знаю, потому что потом мы подались во второй город, где все и происходило дальше. И только до двух, полтретьего - бабуля пела; и за двором так тихо, словно это были корабли, проходили трамваи. И я засыпал под них.
Люсенька – какая-то небесная, неземная, лёгкая, вечно счастливая, смеющаяся.Ее лица а я не помню, но помню смешное, до середины бедра платьице.
И помню её ноги.
Ритуал проникновения в Люсенькину квартиру я помню также очень хорошо. Мне до сих пор не совсем понятно, что влекло меня больше: пианино? или голые Люсенькины ноги под платьицем? Бабушка говорила с ней не помню о чем; а вот дед, я уверен, кокетничал и соблазнял; деда я знаю по себе.
Потом была вторая Люсенька. Точнее, Петров даже не знал, как её зовут. Она была прекрасная, утончённая продавщица в магазине.
Петров приходил в этот магазин всякий раз после музыкальной школы (кажется, он назывался сувенир или подарки), и втыкался в витрину. Денег не было никогда.
Люсенька была рядом.
Она витала где-то там, за прилавком, за разложенными заботливо ручками, карандашами, блокнотами, ножиками и точилками.
Она была неземная. Белая брюнетка.
А Петров приходил туда каждый раз после музыкальной школы, только ради неё.
Я помню, как было, когда её не было. Я не понимал ничего ещё тогда. Недоумение? Обида? Страшная печаль?!
Однажды, прособиравшись полчаса, пересохшим горлом Петров попросил её показать ножичек. Дерьмовый ножичек в искусственных дерьмовых ножнах. Она подала ему, и Петров видел её руки, точеные ноготки, складочку между большим и у, и путался в словах, и пиратские глупые картины вставали перед его воспалённым взором.
Он мечтал, как спасает её.
Будто бы он плывёт по морю на матрасе...
Хм, этот Петров почему-то всегда в своих мечтаниях и сновидениях по морю плавал на матрасе, загребая руками воду. Вот он плывёт по морю на матрасе - а откуда-то снизу выплывает нежная, беспомощная, полу (или почти совсем) обнаженная Люсенька. Которую Петров заботливо спасает и любит: ещё просто, ещё по-детски, всего лишь доставая из воды и оживляя; но уже с какой-то болью утраты и неизбежностью разлуки, словно с каким-то предчувствием своей близкой будущей смерти.
В общем, примерно такая творилось херня, и писать, собственно, было ни о чем.
Сраное Петрово детство.
Лето проходило на пляже.
По прямой как стрела улице Петров спускался на пляж.
Утром, прямо к семи, к открытию магазина (по настоянию бабушки) Петров по ней же бегал за молоком, маслом и сметаной (по холодку); но тогда эта улица совсем не была такой, как было сейчас, днём, когда полусонный, вялый, томный Петров медленно сползал к реке, к раскалённому белому песку и чёрной воде.
Да.
Синяя река чернела в зной.
Вечерами, тёмными как ночью, Петров выходил в подъезд курить свою сигаретку. Мальборо тогда стоило полтора рубля.
Черт, черт, как это было! - незабываемо!
Огромное окно, распахнутое, зияло перед ним. Последние ласточки истошно орали, кружась. Вечер умирал, изнывая жарой. А ступени лестницы были прохладными, и хотелось разлечься на них, и лежалось, и библиотечный Булгаков жаждал взаимности. Зачитался бы им до смерти, до дыр.
Пляж был обыденностью, о нём писать не было смысла; а музыкалка, хотя и стояла формально закрытая, пустая - Петрова влекла; добрая старушка вахтерша знала Петрова и и пускала его всегда. Он просил ключ и поднимался на третий этаж. Здесь была непривычная, таинственная тишина.
Я чувствую, будто бы странная, не моя, всечеловеческая любовь разлита здесь по коридорам, закоулкам, лестницам. Вот там, за белой дверью - концертный зал. Сколько там пережито!.. Сколько там детских глупых, нелепых страхов, переживаний, восторгов и неудач.
Петров давно знал, что ключ от класса подходит к двери от зала.
Ещё он знал, что старушка ни за что не потащится на третий этаж.
Концертный Petroff был теперь его. Черт знает, что я играл. Может быть, я просто продолжал плавать, как в реке; а может быть, я купался в любви?
Реке любви? Жары?
Я ведь был простой.
Жара.
Любовь.
Река.
Этого хватало.
Самое сильное впечатление моего детства, пишет Петров.
Я помню, пишет Петров, что в нашем городе был парад. И там была демонстрация. Папа повёл меня в демонстрацию. Мы шли, мы несли флаги, всем было очень весело, и смешно. Папа поднял меня на плечи. Кругом было очень весело. Один солдат стоял и разговаривал с другими солдатами. У всех у них были винтовки, не настоящие, деревянные. Мне страшно захотелось винтовку. Я так хотел винтовку, но я боялся просить её у солдата. Папа сказал мне: просто попроси. Но я ужасно боялся попросить винтовку, ведь я думал, что это невозможно, невероятно, чтобы солдат отдал мне винтовку.
Папа слегка рассердился и велел мне попросить винтовку у солдата. Дай винтовку, сказал я. Тогда солдат просто, не отвлекаясь от разговора с друзьями, протянул её мне. Не помню, куда потом она делась. О, кажется, я был счастлив, так это было здорово.
Вот, наверное, самое сильное впечатление моего детства.
Да, пап.




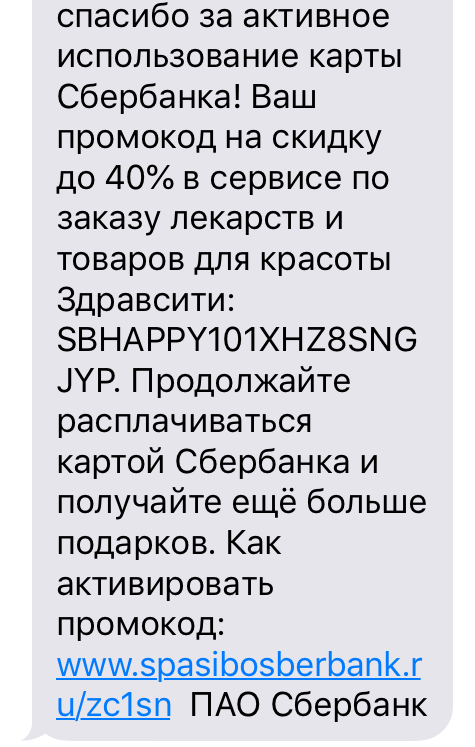
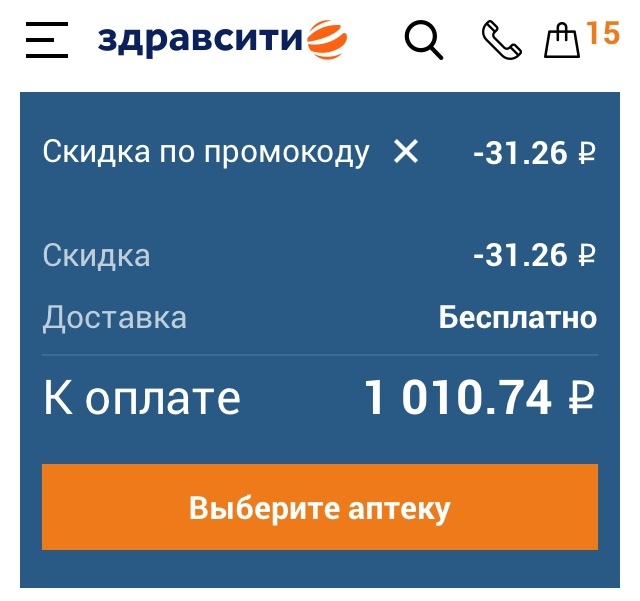
![Нужен ветеринар. Срочно [НЕАКТУАЛЬНО]](https://cs9.pikabu.ru/post_img/2019/09/02/6/1567412071159523692.jpg)