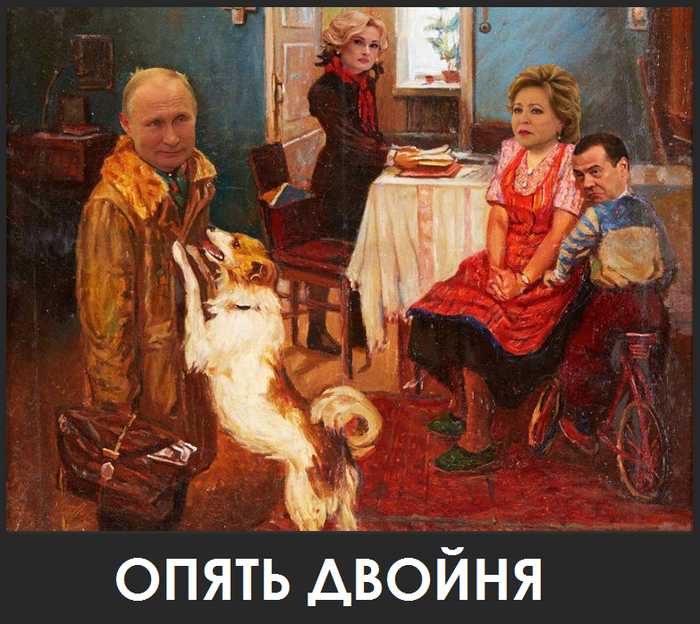Дома у Егора пахнет кислой капустой, краской и резиной. Ковёр завален клоками серой шерсти. «Дана линяет», - говорит Егор. На диване свесив лапы лежит большой киргизский волкодав. Мы расположились внизу, на ковре перед телевизором. Цветные фантики турецких жвачек «Turbo» и «Lazer» заменяют нам деньги: мы азартно ставим их на кон и разыгрываем. Обычно их клали один на другой на ровную поверхность и хлопали сверху рукой. Перевернулись – забираешь их себе. Было много техник выигрышного удара: «на бок», «воздушкой», «ровной рукой», «лодочкой»… Нельзя прихватывать, нельзя слюнявить ладонь. «Чисто бил или нет» - все напряженно следят, уличают, спорят. Но мы пошли дальше: победителя определяем, играя в «Денди».
Черепашки Ниндзя на экране сражаются под бодрую восьмибитную мелодию. Второй класс позади, а до третьего ещё целых три месяца: река, летний лагерь, горы, книги, абрикосы, виноград, футбол и приставка. Позади хлопает дверь и перед нами возникают тётя Алла и Диля. «Егор, я устала!» - строго произносит тётя Алла. Егор многозначительно смотрит на нас, и мы быстро сворачиваемся, а волкодав Дана покидает диван и занимает наше место на ковре.
Алла, мать Егора, работает фельдшером, а Диля – медсестрой. Они всегда вместе возвращаются домой и частенько застают нас за вечерней игрой. Потом мы с Дилей выходим из первого подъезда и идем в наш: я живу на втором этаже с бабушкой, она на четвертом – с большой семьей. Сегодня у подъезда аншлаг. Её брат Денис напился и исполняет акробатику пьяного мастера прямо на балконе на потеху соседям. «Прыгай, Денис!» - кричит толстый Рустам. Денис понарошку потешно «ныряет» рыбкой и повисает на бельевых верёвках, снова отходит и снова «ныряет». Деревянные опоры пугающе скрипят.
- А если прыгнет?
- Не прыгнет.
- Он со вчера такой.
- Диля, идём, у нас останешься.
Бабушка приглашает. Это значит, мы будем пить чай на веранде и потом ляжем спать все вместе в большой гостиной. Бабушка – у стены с ковром, мы – под дедовской картиной с лодками.
Она уже оставалась у нас пару раз. Ни свет, ни заря ей на работу, а дома кордебалет продлится до утра, а может и затянется. Большая семья Григорьевых. Шестеро детей, двое приёмных. Их так и называли «многодетные».
"У многодетных опять музыка. Иди, у многодетных пилу попроси. Многодетные рыбы наловили, давай на уху купим."
Девять человек в трехкомнатной квартире. Бытовые проблемы, больной отец, водка. Безработица, водка, бедность. Водка, драки, тюрьма. Родители умерли. Денис за старшего. Сел. Откинулся. Работящий, но пьёт по-чёрному. Второй брат – Миша. Всегда на заработках. Армия, потом север, потом Москва. Мелкие ходят в школу, после – собирают металлолом.
Диля – приёмная. Волосы шапкой, непослушные, конские, вороные, кучерявые, густые. Белая кожа, крупный нос, брови домиком. Полные ноги, широкие плечи. Выше всех в семье. Носит сарафаны. Сначала думали, что она – ребенок с особенностями в развитии. Оказалось – нет. Ребенок войны. С трудом говорит, заикается. Долго и улыбчиво подбирает слова. В школе отставала, но училась быстро. Работала, везде, где могла. А потом устроилась медсестрой.
В областной больнице работать некому, особенно на самой жести. С неизменной добродушной улыбкой она приветствовала соседей, мыла полы в подъезде, вела домой пьяного Дениса. С такой же улыбкой она наверняка меняла утки и накладывала жгуты. Тётя Алла говорила, что у Дили талант. Рассказывала, как она обнимает тяжелобольных, как те ждут ее прихода и хвалят легкую руку при уколах.
Бабушка храпит раскатисто и посвистывая. Я не сплю с ней в одной комнате, а сплю в дедовской, но, когда у нас гости, бабушка запирает её на ключ. Там много ценного. Подумаешь, ценности. Вот поспать бы…
- Диля, ты Диляра или Дильбар?
- Дилоро́м.
«Дил ором» - дословно переводится «сердечный покой».
- Ты татарка или таджичка?
- Русская, - отвечает Диля. – Папа русский, Денис русский. По-русски думаю. Русская значит.
Если громко кашлять, бабушка на некоторое время перестает храпеть. Я заметил это, когда болел и кашлял по ночам. Видимо, она слышит что-то во сне. «Грррхы-грррхы» исторгаю я после особенно заливистого всхрапа.
- Устала она за день, - тихо говорит Диля. – Хорошая она. И ты хороший.
Тёплая рука ложится на лоб. Становится уютно и коконно. Храп бабушки вдруг делается глухим ворчанием мотора трактора, что пропахивает ворс настенного ковра. Цветы на ковре пахнут дилиными духами, по спине бегут мурашки, но веки тяжелеют, и я лечу куда-то за окно мимо качающихся на настоящих волнах нарисованных дедом лодок.
----------------------------
В Ходженте над всем видимым пространством довлеют горы. Они выше всех домов, девятиэтажных коробок, массивных футуристических университетов и библиотек, выше башен телевещания, выше ферм ЛЭП, метеовышек, точек сотовой связи. Горы многократно, весомо, грубо, зримо, выше и шире всего, за что может зацепиться глаз.
Привычная линия горизонта - это когда небо округлой створкой касается земли. Здесь же земля, вздыбливаясь, устремляется навстречу небесному куполу и встречается с ним на полпути. Как будто ты стоишь не на ровном блюде, которое накрыли полусферой небосвода, а внутри исполинской раковины, на дне ее нижней створки и где-то высоко эти створки земли и неба, не уступив друг другу ни пяди, соприкасаются, как две равные стихии.
Город стоит на покатом склоне и движение здесь всегда либо вниз, к реке, либо вверх – к горам. Стоит впервые уехать в равнинный город и сразу всё причудливо иначе: много простора, много неба, есть «разбег» для глаза. Так вообще бывает?! И все рукотворные сооружения – сразу большие и значительные, ведь рядом нет корявых, ошерстившихся колючими кустами гранитных громад.
Вернёшься и всё кажется приземистым, картонным, покосившимся. И только горы по-прежнему величественны. Они и сейчас торчат над горизонтом, но ты уже знаешь: их кажущаяся синяя малость – иллюзия. Если сесть на заднее кресло автобуса и, не особо глазея вперёд, через два часа выйти на конечной – внезапно открывшийся вид ошеломляет так, что мне приятно захватывает дух.
Я вернулся, проведя академический отпуск в трех разных странах. Теперь предстоит снова окунуться в учёбу, закончить четвёртый курс. За год всё как-то измельчало и отдалилось, но дома пуще прежнего утопают в зелени. Даврон-бек сделал пристройку к торцу хрущёвки, выстроил гараж и баню. Я помню всё это ещё фундаментом. Уверенным шагом иду к воротам. Местный пёс узнаёт и бежит на встречу.
Бабушка давно умерла, а квартира сдавалась. Уже десять лет мы жили в другом районе и я бы не приехал сюда, но у нас появился новый квартирант.
- Сам узбек, грузы возим, автобусники мы.
Упитанный, раскосый, смуглый, весёлый. Он волоком тащит за собой по песку большую спортивную сумку на колесиках. Суетливо курит, бодро шагает под гору.
- О, дом этот знаю. Здесь раньше шлюха много был. Извините… проститутка то есть.
Поправляется, смутившись первому слову и вспомнив второе, на его взгляд более культурное.
- Вот здесь я баба ебал хорошо.
Он мимоходом показывает на какое-то окно. Кто там жил… Уже и не помню.
- Но я русский баба больше люблю, если чесссно. Чистые. Наш обычно вонючки.
Тут может показаться, что мой собеседник был каким-то удивительно злобным бесцеремонным хамлом, но это было не так. Незатейливый и прямолинейный работяга, он просто говорил, что думал, и когда думал пургу – нёс её без всякого стеснения, а когда говорил о женщинах - обозначал свои предпочтения без утончённых метафор. Это умножалось на специфический русский язык, «постсоветское матерное эсперанто», где бранные слова далеко не всегда носили негативный оттенок, а были просто описательными и безоценочными. Практически все гестарбайтеры из разных республик общаются на таком «русском» между собой, подхватывая особо изысканные обороты от русских прорабов и ментов.
- Где-то здесь Диля жила, сочный баба. Хороший. Новенькая проститутка был, все хвалили. Один раз её тоже ебал. На квартира приглашал, а там ещё четыре братаны. Она приходил, я денги платил, ебал. А потом братаны голодные же, тоже хотели. Не пускали её, короче, ебали все тоже. Потом стыдно стало, нехорошо, но, деньги за всех ей платили по её цена. Вот так от нас пошла:
Он демонстрирует походку в раскоряку, улыбается, деловито озирается во дворе.
- Подъезд которы будет? Здес будет?
- Нахуй иди. – как-то неожиданно для себя и тихо говорю я.
Вся эта неухоженная ветхая старь, панельная, коврово-топчанная, журчащая водой арыков, синеющая глубоким небом, вся эта зелень, жужжащая стрекозами, пахнущая цветущим урюком и травой, словно окрутилась вокруг меня в несколько оборотов и решила внезапно задушить в своих приветственных объятиях.
Вместе с дыханием выталкиваю слова, чужие, как кислый запах пота и табака, теперь громче, не замечая, что почти кричу:
- Нахуй, пошёл, сука! Пошёл!
Замахиваюсь на него, словно натягиваю кулаком невидимую тетиву.
- А, да, да, командир, хорошо! – кричит он и отскакивает.
Поворачиваюсь, иду назад к автобусной остановке.
- Сам ты нахуй пошёл, пидарас! – слышу вслед.
Мимо меня пролетает и падает на песок гранитный булыжник. Подбираю и молча бегу на него, он пускается прочь. Яростно пинаю оставленную сумку, запускаю вслед красным осколком, порезав себе ладонь.
------------------------
Город напоминает лепёшку: по краям вздыбились этажные районы, а в центре – старая махалля: частный сектор с огородно-исторической застройкой. Глиняные дувалы, за которыми раскидистые сады. Плетеные циновки у расписных ворот, женщины в цветных туниках, для описания орнамента которых подошло бы современное слово «глитч».
Пахнет кукурузой, пловом, костром, пряным кунжутом, нечистотами, овчарней, цветами, смолой. В полутёмных переулках – столбы пыли и света. Играет домра. Шипят радиоточки на фарси и дари. Обнаружить здесь храм Свидетелей Иеговы – сюрприз впечатляющий, но меня ожидало нечто ещё более удивительное: я встретил Дилю.
Вы - Слава из Первого?
Я работаю при храме, а Вы?
А Вы где живёте теперь?
А как мама?
Она сама узнала, подошла и засыпала вопросами. Та же улыбка, а вот заикание совсем прошло. Так странно, но так радостно. Незначительно, но почему-то очень важно. Много взаимного тепла, но обстоятельно говорить решительно не о чем.
Я вашего пастора проведать приходил.
Однокурсница моя, что на пианино играет.
Да, верующий. Ну, как сказать? Сразу во все храмы хожу.
Да, переехал. Да, уезжаю. Да, на совсем.
Иеговисты, что бы и них не говорили, действенно и ощутимо, словом и делом помогали тем, кто уже никому не был нужен, порой даже не нужен самому себе. Сироты гражданской войны, русские старики, наркоманы, путаны, бандиты, сидельцы тюрем. В больших городах их знают, как любителей прийти домой в неудобное время для разговоров о душе и Боге, но на задворках мира они так же смело и настырно приходили в почти потерянные жизни и зажигали там светильник надежды.
- А хотите, провожу Вас? – вдруг говорит Диля. Я теперь в Чкаловске живу и по утрам хожу на самолёты смотреть. Вы утром полетите? Я тогда приду.
У аэропорта большой аляпистый фонтан с вращающимся в мраморном «тазу» земным шаром. Возле этого фонтана я проводил всех своих друзей. Из нашего двора я улетал последним русским.
Диля стояла у решетки, за которой был простор взлётно-посадочной. По ней бодро разгонялся турбовинтовой Ан.
- А я полечу, вон, на новом. Зелёный.
- Когда-нибудь и я полечу. Смотрю, как летают и мечтаю, что когда-нибудь полечу отсюда.
- А куда?
- Как куда? В Россию. Я же русская.
Мы идем в зал отправления. Он, как рынок или мечеть: такой же восточно-расписной и шумный, здесь встречается друг с другом весь город. Дилю кто-то хватает за руку из толпы.
- О, Диля, ну что, когда пойдём? – стайка каких-то прилетевших лимитчиков громко гогочет нам вслед. Она идёт, потупившись и залившись краской.
Со спортивной сумкой и старым рюкзаком предъявляю паспорт. Впереди новая жизнь, а на душе – кромешная тошнотворная погань. Я вспоминаю рассказ Бернхарда Келлермана «Сэнг», как уезжая, мужчина в горах прощался с хромым мастиффом, с которым подружился в процессе работы. Это не добавляет радости моменту.
Наверное, пора идти. Диля рассматривает мой новенький российский загранпаспорт, пока я суетливо шарюсь по карманам.
- У меня там где-то брат. А у меня такой когда-то будет?
Я ещё не знаю, что без прописки этот красивый красный документ не даст мне в новой стране совершенно никаких прав. Ни работы, ни бизнеса, ни кредита, ни пенсии, ни медицинской страховки - он годится лишь для того, чтобы выезжать и въезжать. И сообщает чувство принадлежности моей большой культурно-исторической родине, где я не был никогда.
Достаю пачку разменянных российских купюр – мой НЗ на первое время. На ощупь отделяю треть.
Нет, так нелепо. Неловко. И очередь смотрит. Какого хрена.
Кидаю пачку в основной карман рюкзака.
- Вот, Диля, это подарок на память.
- Рюкзак?
- Нет. Ну да, то есть, там, в рюкзаке.
- Так давайте, я возьму, а рюкзак вам нужнее.
- Берите так.
- Нет. – берет рюкзак и открывает его. Прямо на свитере лежат рассыпанные купюры, но она как бы и не замечает их. - Вот это возьму. – Она берет мою старую бейсболку.
- Так, проходим. Таможенник торопит, и я шагаю за синюю линию. Мой маленький рубикон. Она стоит и машет, кажется, слишком как-то сильно машет моей кепкой и улыбается, улыбается единственная в толпе.
- Не напрощаетесь. В Москву тоже? Кто это? Девушка? – добродушно спрашивает пышная согдийская тётя в вязанной кофте на дрожащем от перегруза старом эскалаторе.
- Сестра.
- Непохожа. Таджичка ведь?
- Русская.